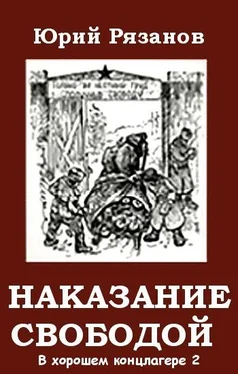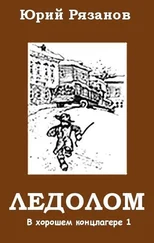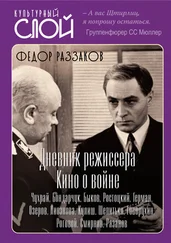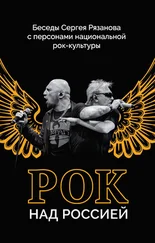— Так что же ты, мать твою… Сейчас же поворачивай оглобли и привези мне эти дневники.
Меня, конечно, возмутило, что кто-то будет читать мои личные записки, но уже тогда мне стало ясно, что запретить им делать этого я не могу. А вскоре и совсем успокоился: в набросках моих, черновиках и вариантах стихов, заметках не было ничего, что бы меня уличило в чём-то неблаговидном. Они даже подтверждают мою невиновность. Я уже знал, что милиционеры ищут. Брат Серёги предупредил меня, что Воложанина «заарканили», изъяв остатки украденного. Предал всех нас карманник по кличке Ходуля, он оказался сексотом.
— Брательник сказал, что всем вам лучше смыться. Пока следствие.
— А я-то тут причём? — вопросом ответил я. — Я ни в каких Серёгиных делах не участвовал. Да и некуда мне ехать.
— Ну смотри, тебе с горки виднее, — закончил короткий разговор Серёгин братишка, который был известен свободским ребятам больше по кличке Глобус.
Когда судья с заседателями удалились на совещание, чтобы проверить наши жалобы о побоях и моё опровержение, следователь, находившийся в зале заседания, засуетился, подошёл к нам, сидевшим рядком за барьером, и негромко предупредил: если нам удастся вернуть «дело» на доследование, начнётся всё сначала. Он со значением повторил: «всё — сначала». Но напрасными были его волнения и сомнения — судьи поверили следователю, а не нам. Иначе и быть не могло.
Не удержусь, чтобы не вспомнить один эпизод. Семь лет спустя, отработав и положенный срок в армии, в строительных частях, я вернулся в свой город и однажды встретился с бывшим одноклассником по ШРМ. За стаканом вина, вороша прошлое, я обмолвился о приписанных нам старательным следователем кражах.
Женя, некогда носивший кличку Прокурор, потому что был сыном прокурора, а к моменту нашей встречи — уважаемый директор дома пионеров, член партии, в которую его приняли в тот год, когда меня осудили, так вот этот Евгений Глотёнок (фамилия и имя подлинные) признался, причём никто его за язык не тянул, что и «сапожку» — мастерскую по ремонту обуви, и ларёк «трахнули» они, несколько подростков из их дома. Шайкой руководил он, Женька Прокурор.
Я был ошарашен этим признанием: те, кто «ковырнул» «сапожку» и раскурочил ларёк, похитив из него несколько пачек папирос и бутылок дешёвого вина, так и не поплатились ничем за совершённое, а мы…
Но возвратимся в начало мая пятидесятого, далёкого теперь года, в душную каморку, в которой мы толклись, дыша друг другу в лица, и томились, только что обременённые огромными сроками наказания, почти равными прожитым нами годам. Лишь Серёгу, того, кто украл ящик халвы из магазина и уже имевшего судимость, не пугали полученные им двадцать лет. Он предложил нам поклясться в верности друг другу, что мы и приняли единогласно. Держаться вместе давало нам хоть какую-то надежду не пропасть в будущем. Он уверил нас, что некие «добрые хлопцы» на зоне не дадут нас в обиду и что тюрьмы и лагеря нам будут нипочём. Главное — противостоять «псарне». [21] Пёс — вертухай, псарня — вертухаи (воровская феня).
А из лагеря можно и сбежать. Но его обещания не ободрили меня. Будущее заслонило сплошным мраком то, что мне уже привелось увидеть в седьмом отделении милиции и в тюрьме.
Наконец, нас вывели на улицу. Посадили на корточки. Мы ждали, пока к нам подрулит тюремный фургон, прозванный «чёрным воронком». Эти несколько мучительных и одновременно радостных минут я жадно разглядывал всё вокруг и лишь старался не смотреть туда, где стояли братишка, плачущая мама и соседки. Направо, через дорогу, вздымалось многоэтажное, из красного кирпича, здание школы.
Шумная гурьба ребят, среди которых могли оказаться и те, кто знал меня, возилась и с криками гоняла по двору пустую консервную банку. Услышал я и звонок, возвещавший конец переменки. Чего только ни отдал бы я, чтобы присоединиться к ним, счастливчикам. Свободным!
Стыд жёг мои щёки, и я закрыл лицо ладонями, чтобы кто-нибудь из пацанов не узнал ненароком и не закричал:
— Поглядите, вон Юрка Рязанов!
Над свечой полуразрушенной мечети, зажатой между отделением милиции и массивной коробкой школы, кружили, как всегда, с карканьем вороны. Те самые, наверное, что и тогда, в памятном мае сорок пятого. На уличных тополях набухли почки, и глаз улавливал прозелень в силуэтах деревьев. В канавах стояла вешняя вода. Начало мая! Солнце слепило! Всё это было мне хорошо знакомо. И привычно. И в то же время я очень надолго или, быть может, навсегда был от всего этого отлучён. Горчайшее чувство вырванности овладело мной. Хотелось плакать. И каяться. В чём был и не был виноват.
Читать дальше