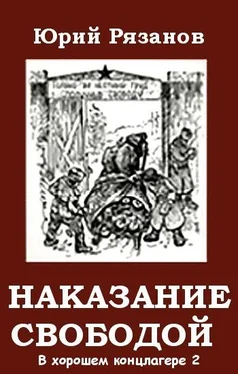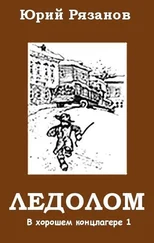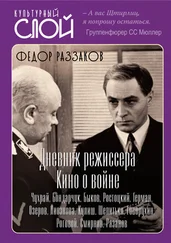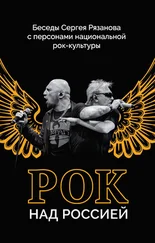Поэтому, вероятно, я не придал значения тому, что блатные посматривают на что-то поверх кирпичных стен прогулочного двора, переглядываются и шушукаются. На второй или третий день мне стало ясно, что предмет, который так их занимает, — обыкновенная костяшка домино, болтающаяся на нитке, спущенной из-под жестяного «намордника», закрывающего окошко верхнего этажа спецкорпуса.
Это, безусловно, что-то значило. Что?
О доминошке блатные упоминали в своих беседах на фене, из которых я ничего не мог понять. О том, что доминошка висит, Тля-Тля лично передал в соседнюю камеру, используя в качестве рупора алюминиевую кружку, плотно прижатую к стене. С её же помощью выслушивались и ответы. Ещё я уразумел, что «держится» относится не к доминошке, а к кому-то. Тля-Тля так и произнёс: «он делжит» что-то, но что, я не разобрал с его «тляканьем».
Блатные умеют даже в тюремной тесноте сохранять секреты. Кто «он», почему «держится», за что, об этом знали только урки. Если б кто-то обронил в разговоре, что доминошка исчезла с нашего стола, я, возможно, и догадался бы что к чему, но и об этой потере никто не вякнул.
Прошла неделя. Другая. Прямоугольный кусочек дерева продолжал висеть на нитке, вращаясь и раскачиваясь под порывами весёлого весеннего ветра. С каждым днём беспокойство блатных нарастало, хотя они и повторяли то же самое: кто-то (не произносилось ни имени его, ни клички) держится, за что называли его «молотком», то есть молодцом.
Всё тайное в определённый миг становится явным, так гласит мудрость. Раскрылся секрет и висящей доминошки.
Поздно ночью меня, да и не только меня, разбудил не крик за окном, а картавый ор пахана. Информация передавалась из «бокса» в двадцать седьмую камеру, то есть нам. Вернее, нашему пахану. Переговаривался с тем, кто кричал в гулкий колодец тюремного двора, сам Витёк. Хотя это было опасно и грозило карцером — грубое нарушение режима. Правда, возле «волчка» маячила какая-то бледная, измождённая личность, заслоняя собой просмотр камеры из коридора, но было прекрасно слышно, кто с кем и о чём беседовал.
Надзиратели не дремали и в столь поздний час. Едва Витёк успел отлепиться от форточки и, грубо растолкав двух спящих, врезаться меж ними, как с грохотом разверзлась дверь и один из ворвавшихся надзирателей выпалил пискляво:
— Хто крычал в фортощка?
Все, естественно, молчали.
— Если нарушитель не признается, я прикажу закрыть окно, — пригрозил другой надзиратель, повыше ростом и, наверное, старший по званию.
— Не надо, гражданин начальник, — промямлил кто-то спросонья. — И так дышать нечем.
Витёк, будто бы очнувшись от сна, из угла противоположного тому, где находилось окно с форточкой, завопил:
— Кто, чехи, [16] Чехи — ещё одно прозвище мужиков, данное им блатными (тюремная феня).
на шнифте [17] Шнифт — глаз, так же воры называют окно (тюремная феня).
висел?
Совсем нетрудно было определить, хотя бы по голосу, нарушителя режима. И я ожидал, что именно Витьку предложат собираться в кондей. [18] Кондей (кандей) — штрафной изолятор, одиночка (тюремно-лагерная феня).
Но из-под нар выполз изгой Петя, которого от рождения и по следственным документам звали вовсе не Петей, а иначе, и заявил:
— Это я, начальник, с корешем базарил.
— Айда сы нами, — пригласил наздиратель-коротышка. — Нэ хочшь балшой турма сыдеть, будэшь маленкай турма сыдеть.
— Собирайся, — приказал другой надзиратель. — Поживей.
А чего ему собирать? Всё было на нём и при нём. Позёвывая, Петя покорно проследовал в коридор. На ходу он что-то жевал. Успели-таки ему сунуть корку хлеба, а за неё он и не на такое соглашался.
Ну и мудрецы блатные. Придумали систему собственной безопасности: виноватым оказывается кто угодно, только не урка, не тот, кто совершил проступок или преступление. Очень предусмотрительные ребята: уже заранее определён козёл отпущения, и искать никого не надо — нарушение режима или преступление моментально раскрыто.
Из разговора пахана с кем-то из «бокса» я уловил только то, что этот «кто-то», возможно, Вася Жирный, а фраза: «Всем намотали по четвертаку» — результат суда над ними. Свою информацию он закончил коротко:
— Толик дубаря секанул. В сидоре.
Это известие меня поразило своей неожиданностью и даже невероятностью. Речь шла о Толике Воинове по кличке Пионер, одном из только что осуждённой группы. А точнее — банды. Они, будучи транзитом на челябинской пересылке (в пересыльной тюрьме), задушили кого-то. Пользуясь выражением Васи Жирного, «поддавили». Жертва, по-видимому, если верить убийцам, оказался подсадной уткой. Или чем-то провинившимся перед преступным миром. Суд блатных был скор и однозначен, а приговор привели в исполнение без бюрократических проволочек — немедленно. Убийцы, а их было вроде бы двое, и они находились в камере, в которой сидел и я до перевода в двадцать седьмую, подробно и со смаком живописали вслух для всех, как они расправились с жертвой, накинув во сне на шею удавку, как он забавно хрипел и дрыгал ногами. А Жирный добавил и такую подробность: удушаемый, когда его лишали жизни, обделался. Якобы со страху. Жирный долго хохотал — до слёз! — рассусоливая, как это с «сукой» произошло. А меня ужас охватил, когда я воссоздал в воображении нарисованную убийцей (если он действительно был тем, за кого себя выдавал) жуткую картину. Во рту сразу пересохло. Так всегда со мной бывает, когда сильно волнуюсь. И одна беспомощная и отчаянная мысль билась в моей голове: как же так можно? Решили, взяли и… убили! А если он не виноват? Если им это побластилось? Да ещё и глумятся, балагурят над мёртвым. В свои восемнадцать лет, в тюрьме я находился около двух месяцев, мне было ещё неизвестно, что блатные успешно используют подобные устрашения для подавления в мужицкой, фраерской среде даже помыслы сопротивления насилию и паразитизму преступного мира. Вот почему изверги столь натуралистически живописали подробности своего гнусного преступления.
Читать дальше