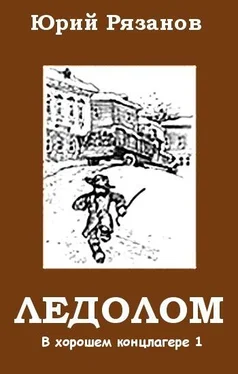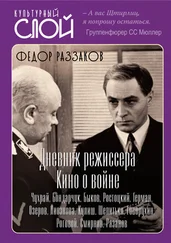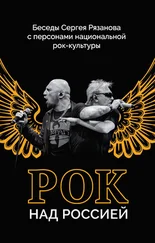Я повернулся и пошагал к воротам. Не стал совершать обманный ход — будто в квартиру вернулся. Все равно разнюхает о моём исчезновении. И всем растрезвонит и кому нужно донесёт. Не скроешься. Да и чего мне таиться — на работу пошёл.
У калитки, ведущей на тротуар, остановился, снова развернулся к дому и, как раньше неоднократно, прищурил веки. И от Голубой звезды вмиг вытянулись острые, соединяющие меня и её лучи.
Название этой звезды — Венера.
1981 год
Сиреневый туман
Сиреневый туман над нами проплывает,
Над тамбуром горит полночная звезда.
Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,
Что с девушкою я прощаюсь навсегда.
Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь,
Уеду я на год, а может быть, на два,
А может, навсегда ты друга потеряешь,
Ещё один звонок — и уезжаю я.
Запомню все слова, что ты тогда сказала,
Движенье милых губ, ресниц твоих полёт.
Ещё один звонок — и смолкнет шум вокзала,
Ещё один звонок — и поезд отойдёт.
Последнее «прости» с любимых губ слетает,
В глазах твоих больших — тревога и печаль.
Ещё один звонок — и смолкнет шум вокзала,
И поезд отойдёт в сиреневую даль.
1949 год, с воспоминаниями о 1945-м
Воскресным летним днём тысяча девятьсот сорок девятого года, получив долгожданный отпуск, насвистывая полюбившуюся мне мелодию выходной арии из оперетты Имре Кальмана «Мистер Икс» и про себя напевая запомнившиеся слова «Устал я греться у чужого огня…» и далее, я бодро шагал по всё ещё родной (так мне тогда думалось) улице Свободы, перебирая в памяти события последних дней, произошедшие в моей жизни.
…Между прочим, более полувека безвозвратно минуло с того момента, а именно улицу моего детства я считаю и до сих пор родной. Сам не понимаю, почему. Ведь увидел я свет не только не на этой улице, но даже в другом городе, а теперь и в ином государстве — в Казахстане, в городе Семипалатинске.
…Недавно мне исполнилось семнадцать, но я не пошёл в Челябу, чтобы отметить дома эту не ахти уж какую важную дату, за что в очередное своё появление получил упрёк, разумеется от мамы.
— Уж мог хотя бы прийти на час-два повидаться, — сказала она с обидой.
— Да ведь у нас как-то не принято отмечать эти дни. Они пережитки прошлого.
Пришлось, чтобы успокоить маму, солгать, что именно в этот день пришлось отрабатывать в цехе двойную смену. Вот ведь парадокс — не признавал неправду, а врал, чтобы причинить неприятность другому.
— Отпросился бы у бригадира, или кто он там у вас, мастер, может быть. Небось, отпустил бы повидаться с матерью. А я пельменей настряпала. Ждала.
— Так уж получилось, прости меня, мама.
Я заметил, что отношение её ко мне в последнее время, а я не каждый месяц посещал их, значительно изменилось к лучшему: она стала внимательней и доброжелательней. Может быть, скучала? Жалела? Раскаивалась? Ведь столько незаслуженных наказаний получал раньше, попадая под её горячую руку. Иногда, может быть, и следовало меня приструнить, чтобы не слишком распоясывался (выходил из повиновения), кто знает, маме тогда было виднее.
Я тоже часто вспоминал о ней и о том, что между нами в последние, и даже ранние, годы происходило. Само собой, всё виделось уже не так, как тогда, переосмысливалось. Возникали мгновения, когда мне становилось её очень жаль. Чувствовал: она, очевидно, не очень счастливый в личной жизни человек. И ещё больше жалел её — ведь всё самое ценное, свою жизнь по минутам, часам, годам она отдавала нам. Не сомневаюсь, она любила нас, своих сыновей, видела, наверное, смысл своего существования в том, чтобы вырастить и воспитать нас. Любила она и отца, и прощала ему многое, чего другая женщина не смогла бы сделать, или не пожелала, — простить. Но это уже не моё право — судить о взаимоотношениях родителей. Главное, я увидел то, чего не замечал раньше или чему не предавал должного значения.
А в предпоследний наш разговор (о дне рождения) я, грешник, умолчал о нежелании встретиться с отцом. И избежал общения с ним.
Он, возможно, и не попрекнул бы, что «Юряй заявился пошамать на дармовщинку», однако я опасался чего-то подобного, произнесённого им даже вскользь или какими-то другими словами, даже отдалённого намека, — уже давно «харчевался» на честно заработанные грошовые заработки, которых хватало на хлеб, картошку и иногда на молоко. В общем, «харчевался» на свои кровные. И оставался собой вполне доволен — никому ничего не должен. Пусть моя работа тяжела и грязна. Меня она не позорит. И я её не стесняюсь. Правда, стыдился лишь одного человека, но какого! — Милы.
Читать дальше