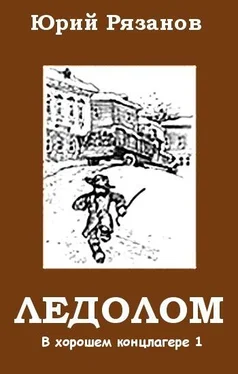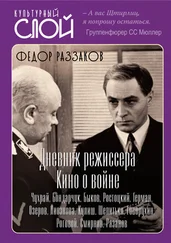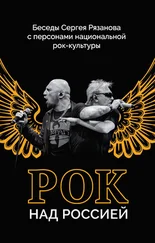Как же это отрадно: видеть, пусть издалека, Милочку. Я испытываю к ней благодарность за неизменную доброту и внимательность ко мне. И часто досада гложет, что нельзя быть вместе с ней всегда. И что-то волнами бродит во мне, распирающее, не объяснимое словами, притягивая к этой нескладной, немного сутулой девочке, что, впрочем, не отмечаю как недостаток, — мне вся она нравится, заставляя часто думать о ней.
Лучшего и не пожелаешь, чем это: хорошо было бы жить нашим семьям в одной большой, огромной воображаемой комнате. Тогда хоть целыми днями смотри на Милу. Больше мне ничего не надо. Но я-то знаю — моя мечта неосуществима. Безнадёжность порождает печаль. Почти скорбь.
Мила встаёт из-за стола, затворяет окно, скидывает платьишко, оставаясь в маечке и трусиках, и выключает лампу под апельсиновым шёлковым абажуром. Да, счастье долго не может длиться. Миг — и пролетело.
…Я один-одинёшенек. От меня, лежащего на спине в борозде, и до зеленоватого сегодня, но все равно голубого, как у Милы, глаза-звезды — холодная пустота. Там ничего нет, ни одного живого существа — ледяное пространство. Мне становится очень неуютно и зябко. Даже — тоскливо. Рыхлая земля дышит сыростью. От неё веет многочисленными — земляными — запахами. Снова всматриваюсь в черноту Милиного окна, надеясь, что в нём опять вспыхнет свет. Тщетно надеяться, но я всё же чего-то жду.
Мне думается: если бы не Мила, я остался бы совсем, ну совершенно одиноким. Леденящее чувство неприкаянности постепенно растворяется, в воображении возникает спящий братишка, озабоченное лицо мамы. Очень хочется в согретую постель, устроиться поудобнее и замереть в блаженном ожидании завтрашнего радостного пробуждения — новый день, сулящий что-то интересное, неизведанное ещё… Но нельзя подняться и уйти. И я снова разглядываю звёзды и слушаю ночь. Как кстати: она тоже не спит, шурша и нашёптывая своё, непонятное и таинственное.
Но что это? Или мне побластилось? [248] Побластиться — показаться, померещиться (местное слово).
В привычные звуки вмешались посторонние, незнакомые! Я насторожился и прислушался внимательнее. Да, это шебуршание. Оно слышится всё отчётливее, оно приближается! Время, отмеряемое ударами сердца, тянется бесконечно долго — еле сдерживаю нетерпение ускорить ход надвигающегося «чего-то». Отжимаюсь ладонями от земли, вытягиваю шею, но ничего подозрительного не вижу. Лунные блики матово мерцают на картофельной листве. А шорохи множатся, по капле заполняя меня страхом неизвестности происходящего «там», где-то впереди. Терпение кончилось. Я вскакиваю и, быстро «зарядив» стрелу, отчаянно натягиваю тетиву. Одновременно вижу — справа резко качнулась ботва, и это не ветер. Там кто-то есть, затаился, замер…
— Кто здесь? — выкрикиваю срывающимся, похожим на петушиный голосом. — Стрелять буду!
В ответ — тишина. Но что-то, какая-то серая масса, всё же просматривается смутно сквозь листву на грядке. Делаю шаг, другой в направлении загадочного и поэтому жутковатого «чего-то». Пальцы на тетиве онемели, не чувствуют зажатую меж ними стрелу.
Я вздрогнул, словно пальцы в электророзетку сунул, и напрягся всем телом, когда раздался испуганный женский голос:
— Хто-й то?! — послышался негромкий вроде бы знакомый голос.
В трёх шагах передо мной вдруг кто-то невысокий быстро вскочил и, пригибаясь, запетлял к дому.
— Неужели она! — наконец-то осознал я, уже вскинув лук вслед удаляющейся фигуре. И, натянув до отказа, отпустил тетиву.
— Неужели это она? Не может быть такого! Невероятно!
Пока в растерянности решал, она ли это в самом деле и что мне далее делать, резко хлопнула парадная дверь. Я запоздало бросился к дому. Дверь уже закрючили. На стук в окно тётя Таня не отвечала, за стеклом густо темнела вязкая тишина. Мне стало не по себе: не привиделось ли всё это? Кошмар какой-то!
Нет, всё-таки это её голос. И кто дверь мог за собой закрыть?
Остатки ночи провёл в сарае. Мутный страх не покидал меня. Однако домой не пошёл, удержал себя как ни рвался внутренне. Едва рассвело, я убедился: ночной гостьей была, несомненно, тётя Таня. И никто другой. В мокрой от росы ботве лежала брошенная синяя, с чёрными выщербинами, эмалированная круглая посудина, рядом валялось несколько розовых картофелин. Чашку эту я множество раз видел на столе у Тольки, и вчера днём — тоже. Свою стрелу, всё обыскал, нигде не нашёл. Куда делась? Попала в цель?
В этот раз пострадала посадка Малковых, и мне не терпелось побыстрее возвратить им мой «трофей». К тёте Тане я не испытал той злости, какую возбудил во мне наш ещё вчера неведомый разоритель. Вор! Меня терзал мучительный вопрос: как она посмела, как смогла? Разве не она, брызгая слюной и размахивая короткими руками, клеймила ворюгу, нагло обкрадывавшего, лишавшего нас пищи? Мне никак не удавалось соединить в своём сознании ту яростную тётю Таню и трусливо убегавшую согбенную фигуру.
Читать дальше