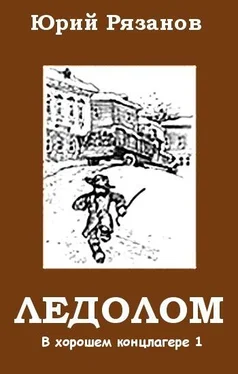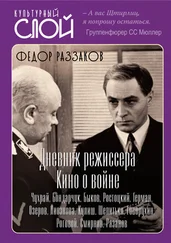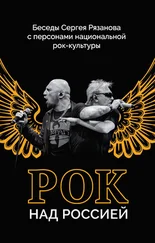Только я подумал — звякнула щеколда калитки, и на дорожке, ведущей к нашему дому, показались тётя Даша со своей сестрой тётей Аней. Лёгкая на помине.
Сам не знаю, откуда у меня смелость взялась, — я бросился им навстречу и, улыбаясь, потому что во мне все ликовало, пригласил:
— Идите к нам, будьте родными. Мы сегодня все как братья и сёстры! Великую празднуем победу!
Тётя Даша остановилась первой, широкие и густые брови её удивлённо поднялись.
— С чего это ты вдруг взял, что все мы родные братья и сёстры? Бред какой-то…
Улыбка, только другая, отнюдь не дружественная, скривила её тонкие губы в яркой помаде.
— У тебя брат — Стасик, у меня сестра — вот она, Анна Александровна. И мы тебе никакие не родственники…
Отчитывала она меня с улыбкой, какой-то недоброй, насмешливой.
Я это почувствовал и отступил в сторону, освободил дорожку, ведущую к «парадному» крыльцу нашего дома.
— Пошли, чего всякие глупости слушать? — запинаясь, выговорила тётя Аня, она же почему-то тётя Нюра, и я заметил, что женщина изрядно пьяна. Поэтому и язык заплетается. Раньше с ней мне как-то не приходилось заговаривать.
Отповедь Малковой подействовала на меня вроде ковша холодной воды за шиворот. Я ещё подальше отступил с дорожки. Сёстры прошествовали мимо стола, сухо поздоровались. Но Герасимовна принялась их приглашать и кланяться, и картошиной последней потчевать. Тётя Даша брезгливо подарок отстранила ладонью, а тётя Аня приняла.
И в этот миг произошло совершенно непредвиденное, неожиданное и необыкновенное: на крыльцо вышел, блистая фольгой шлема, в переливчатой кольчуге, в алом княжеском плаще с большой красивой пряжкой на груди, в тех же красных дерматиновых сапожках — князь Александр Невский. В руках его тускло поблескивал большой и широкий меч. Переносицу и нос князя закрывала выступающая вниз наподобие наконечника стрелы часть шлема.
На меня это явление произвело невероятно сильное впечатление. Мелькнула фантастическая мысль: «Брóня! Он не убит в Ясной Поляне! Жив! Приехал сейчас на наш Великий Праздник!»
Я закричал во всё горло от распиравшего меня восторга: Броня! Ур-ра! Ты живой! Но тут же осёкся, поняв, что это не Броня.
А «князь», легко сбежав по ступенькам крылечка и размахивая мечом, закружился в танце. И не под музыку, исторгавшуюся патефоном, а какую-то другую, неслышимую нами, — музыку Победы!
Это танцевала тётя Лиза! В честь сына.
Кто бы из нас, ошарашенных этим фантастическим явлением, мог подумать, что тётя Лиза сохранила маскарадный костюм сына и сейчас как бы представила Бро́ню всем нам — вот он! Таким был, таким и остался. Он — жив!
Танцевала она, мне показалось, очень долго, то удаляясь по дорожке, не засаженной картошкой и другими овощами, то приближаясь к нам.
Патефон давно замолчал, а она продолжала танцевать, очень красиво, в такт какой-то лишь ей известной, ею слышимой мелодии.
Первым не выдержал я и захлопал в ладоши. За мною подхватили остальные, и овации длились, пока мама Брони, в молодости, наверное, прекрасная танцовщица, сняв шлем, всем нам не поклонилась. Волосы, густые, чёрные, справа рассеклись белоснежной прядью, это было заметно даже издалека. А я продолжал хлопать, не в силах остановить себя.
Наконец к тёте Лизе, лицо которой покрылось капельками пота, подбежала, запинаясь, тётя Нюра и стала целовать её. У неё тоже было мокрое лицо — от слёз. Хотя на фронте у неё никого не значилось, она вроде бы слыла одинокой.
Мне почему-то вспомнилась тётя Мария в сорок первом, тогда ещё совсем молодая, и особенно её муж, они держали своего грудного сына, упакованного в одеяльце. Ивана Герасимова я узрел впервые в ладной военной форме. Я его и раньше видел, но в штатском. Запомнил в тот жаркий июньский день сорок первого и отца Феди Грязина — врезался мне в память навсегда. Он, молодой и кудрявый, пьянущий, сидел в соседнем дворе на приступке порога своего барачного жилища в одну комнату и горестно рыдал… Вот это меня и поразило — рыдающий мужчина. А Федя где-то отсутствовал, может быть, у родных или знакомых гостевал.
Вскоре, через какие-то считанные дни, возможно первой в соседях, мать Феди, ещё нестарая женщина, получила похоронку. Она долго выла, выйдя во двор дома номер двадцать восемь, — отчаянные вопли были слышны и в нашем дворе. Эта молодая тётенька стала первой, увиденной мной, кого жестоко полоснуло по горлу горе войны. Мне было очень жаль мать сгинувшего в преступной мышеловке Феди Грязина, несчастную женщину, потерявшую и мужа — на фронте, и сына. Я никак не мог убедить себя, что тот исходящий смертельным горем жизнерадостный — таким я его мысленно видел — с вьющимися, слипшимися колечками чёрными волосами дяденька тоже убит, растерзан, только на фронте, и его уже больше нет, и он остался лишь в моей и других людей памяти, так же, как и мама его, умершая от горя из-за преступления своего сына, которого растила, любила, надеялась — никого! Их нет никого!
Читать дальше