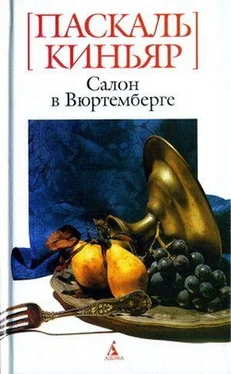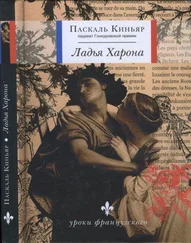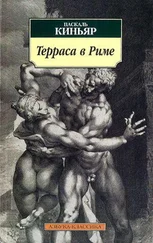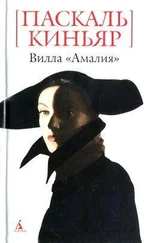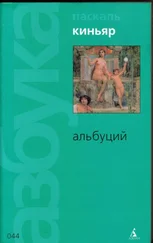И мне казалось в тот вечер – когда ужасно хотелось встать и распрощаться с Сенесе и его женой, – да и кажется поныне, что те вещи, которые мы считаем самыми важными, по сути дела, очень далеки от нас. Они вращаются, парят вокруг иной оси, в которую мы, если вдуматься, верим слабо и весьма поверхностно. То, что нас зачаровывает, возможно, и приобщилось бы к нам самим, но мы сами тотчас отвергли бы это. Или же мы так безраздельно преобразились в то, что нас зачаровывает, что совершенно не способны владеть этим. Вот из такого-то небрежения или, скорее, из сложной и сверхострой аллергии к нашим страстям, нашим тайнам и были сложены наши жизни, сложена дружба. Эта дружба не объединяла ничего, кроме стремлений к дружбе – стремлений, которые сулили все, что угодно, только не дружбу, да и сулили-то, по правде говоря, не так уж убедительно, чтобы ее принять.
Сенесе постучал о край пепельницы головкой своей трубки, чтобы выбить из нее золу. Я вздрогнул от неожиданности и очнулся. Мадлен Сенесе безрезультатно попыталась скрыть ладонью широкий зевок. Сколько свистулек вырезали для меня сестры, выбивая пластмассовой рукояткой перочинного ножика – зеленой с золотистыми искорками – сердцевину из срезанных веток сирени или ивы?
«А помнишь…» – говорил Сенесе, но я его не слушал. Я уже с головой ушел в грезы. Мне иногда кажется, что мы всю свою жизнь занимаемся тем, что откапываем и до блеска отчищаем те осколки жизни, которые в свое время не пережили во всей полноте. Это постукивание рукояткой ножа слегка напоминало нетерпеливый стук в дверь: человек барабанит в нее пальцами и ждет, не ответит ли ему голос изнутри. Вот так и каждое воспоминание долго, бесконечно ждет отклика, который прояснил бы ему собственную суть. Наши жизни подчинены особым симметриям – как рыбьи плавники, как человеческие глаза, руки, уши. Я снова держал ножик с зеленой ручкой. Снова видел плакучие ивы на берегу Ягста. И уютный двухэтажный домик на набережной Турнель. И голубой кедр над Луарой. Как же я любил тишину и безбрежный, бесконечный свет на берегах рек, у самой кромки воды!
Всякая река говорит: «Я – Ганг» или «Я – Иордан» – и будоражит, и повергает своим видом в немое оцепенение. Вода журчит, поет, а старые рыбаки, одетые в темное платье, дабы остаться невидимыми для своих жертв, приходят к ней – частью, чтобы отдохнуть от семьи, частью, чтобы отдохнуть от слов, частью, чтобы найти покой в слиянии с природой – на манер дерева, травы, камня. Но отнюдь не ради того, чтобы найти себя, как они доказывают нам это с пеной у рта. Ибо там и находить-то нечего.
Рыболовные поплавки с их яркой раскраской тоже блестят в этом свете, как зеленая рукоять ножика, как жалкие фиолетово-голубые цветочки сирени, как хрустальная пепельница, в которую Флоран Сенесе выколачивал свою трубку, – все обстоятельства, жесты, звуки, вызывающие то или иное воспоминание, подобны этим крошечным пробковым фигуркам, которые никогда не покажут вам скрытую в глубине добычу: они лишь оповещают о том, что она клюнула, да приплясывают на мелкой речной зыби. Приступы тоски – вот что такое эти подрагивания, свидетельствующие о том, что там, внизу, есть рыба, что она схватила наживку, что прошлое подняло голову и грозит вам.
Иногда рыбы эти бывают поистине чудовищны. Огромные лини, жившие еще при Людовике XIII; ледяная каморка отеля в Везине, с видом на церковь Святой Паулины, где наши с И бель свидания отравлял холод, а главное, тот мерзкий, пугающий шум, с которым голуби то и дело плюхались на цинковую крышу или взлетали с нее; крошечные уклейки, народившиеся пару дней назад; имя – Жюльетта; висячие лампы «Argan» и старозаветные кинкеты; карпы в пруду; монахиня из Марана с багровым лицом Франциска I под накрахмаленным чепцом, с ее метафизическими рассуждениями по поводу людей-овощей; мертвые матери, умолкшие навсегда, – немые, как те же карпы, – и их тела, такие неожиданно огромные, неожиданно длинные, что от одного вида цепенеешь и лишаешься дара речи, подобно усопшим. И множество других воспоминаний, которые погружаются в воду, тонут. Простирают руки. Кричат. Идут ко дну. Все они исчезнут. Да и от нас самих мало что останется на плаву… И вдруг я услышал пение.
«А эту помнишь? – продолжал Сенесе. – „Ах, не льстите мне, не льстите; умираю я, взгляните…" Мадемуазель ведь распевала все эти старозаветные опусы Лорана Дюрана».
Он старался вовсю. Когда он перешел к песенке «О скалы, как вы глухи, вам нежность незнакома…», терпению моему пришел конец. Я мечтал лишь об одном – поскорее уйти отсюда. Хотя пел он совсем не плохо: умело форсировал голос, «брал его в маску», в общем, демонстрировал музыкальные познания, которыми уж точно не обладал прежде, – так, словно специально тренировался и теперь выступал передо мной с целью понравиться.
Читать дальше