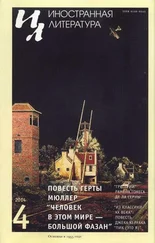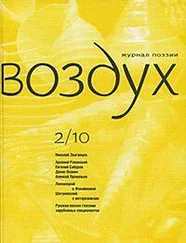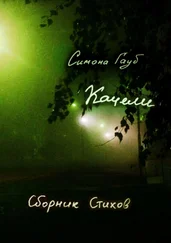Этим бело-батистовым носовым платком еще никто не пользовался. Я тоже его никак не использовал, хранил в чемодане до последнего лагерного дня как реликвию, в память об одной матери и ее сыне. И в конце концов взял с собой домой.
В лагере другого такого платка не было. Все эти годы я мог обменять его на базаре на съестное. Мне бы дали за него сахар или соль, а может, даже пшено. Искушение время от времени возникало, голод ведь слеп. Что меня удерживало: я верил, что этот платок — моя судьба. Выпустишь судьбу из рук — и пропал. Я не сомневался, что прощальные слова моей бабушки — Я ЗНАЮ, ТЫ ВЕРНЕШЬСЯ — преобразились в носовой платок. Мне не стыдно сказать: «Носовой платок был в лагере единственным человеком, который обо мне беспокоился». Я и сейчас в этом уверен.
Вещи порой проявляют нежность, чудовищную нежность, которой от них не ждешь.
В головах, за подушкой, — чемодан, под подушкой — хлеб. Он — оторванный от себя, бесценный — завернут в хлебный платок. А в том месте, где к подушке прижимается ухо, как-то утром раздается писк. Поднимаешь голову — и ты потрясен: между хлебным платком и подушкой шевелится светло-розовый клубок величиной с твое ухо. Шесть безглазых мышек, каждая — меньше детского пальчика. Кожа у них как шелковый чулок, который подрагивает, потому что — живая плоть. Ничто породило мышек, такой вот дар без повода. И вдруг я стал гордиться ими, будто они тоже гордились мной. Я гордился, что мое ухо обрело детей, ведь мышата — хоть в бараке шестьдесят восемь нар — родились именно у меня, меня выбрали в отцы. Мышки были одни, матери я не приметил. Они мне так безмерно доверяли, что я их стеснялся. Я сразу почувствовал, что люблю их и должен от них избавиться, причем сразу же — прежде, чем они примутся за хлеб, прежде, чем все проснутся и что-нибудь заметят.
Я приподнял клубок мышек и переложил его на хлебный платок, сделав из пальцев что-то вроде гнезда, чтобы им не было больно. Затем выскользнул из барака и пересек с этим гнездом двор. Ноги у меня тряслись, я спешил: только бы охранники меня не увидели и сторожевые псы не унюхали. Однако глаз от платка не отрывал, чтоб ни одной мышки на ходу не уронить. После, в сортире, я вытряхнул платок в очко. Мышки плюхнулись в яму. Ни писка. Удалось — я мог перевести дыхание.
Когда мне было девять лет, я нашел в самом дальнем углу прачечной, на старом половике, зеленовато-серого котенка со слипшимися глазами. Я взял его на руки, погладил брюшко. Котенок зашипел, вцепился зубами мне в мизинец и не отпускал. Внезапно я увидел кровь. Я придавил его большим и указательным пальцами. Кажется, очень сильно надавил — и именно где горло. Сердце у меня колотилось, как после драки. Этот котенок — он был уже мертв — поймал меня с поличным в момент убийства. Что не намеренного — еще хуже. Чудовищная нежность запутывается в ощущении своей вины иначе, чем намеренная жестокость. Глубже. И на более долгий срок.
Что общего у того котенка с мышатами?
Ни писка.
А что отличает котенка от мышат?
В случае с мышатами было убийственное намерение, но и сострадание — тоже. С котенком — горечь обиды: хотел погладить, а тебя укусили. Это во-первых. Во-вторых — цугцванг: [22] Цугцванг (нем. Zugzwang) — положение в шахматной партии: необходимость сделать очередной ход, ведущий к проигрышу.
если уж начал давить, назад пути нет.
Лопаты бывают разные. Но мне больше всего нравится сердцелопата. Только ей я дал имя. Сердцелопатой можно лишь нагружать или разгружать уголь, причем исключительно рассыпной.
У нее есть видная сердцу лопасть размером с две головы, если они улягутся рядом. Лопасть и сама имеет вид сердца, она нежно вогнута, умещается на ней пять кило угля или вся задница Ангела голода. К лопасти приварена длинная шейка; черенок же несоразмерно короткий и заканчивается поперечиной.
Сердцелопату одной рукой берут за шейку, а другой — за поперечину вверху черенка. Но, с моей точки зрения, за поперечину хватаешься внизу. Поскольку для меня сердцелопата всегда сверху, а черенок — так себе, сбоку припеку; он внизу или даже сбоку. Стало быть, я ухватываю лопасть — как сердце — вверху за шейку, а внизу берусь за поперечину. И удерживаю равновесие, и сердцелопата в моих руках уподобляется качелям, она словно качели дыхания в моей груди.
Потом нужно дать сердцелопате время освоиться с работой, чтобы вся лопасть заблестела и сварной шов на ее горле ты начал ощущать как шрам на руке, а сердцелопата в целом стала для тебя как бы вторым, внешним, противовесом.
Читать дальше