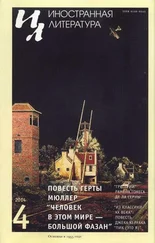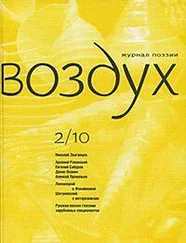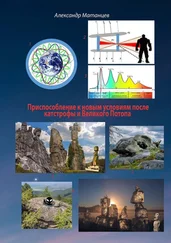Герта Мюллер
Приспособленье тонких улиц
(Эссе)
Перевод с немецкого Марка Белорусца
Речь на открытии Дней немецкой литературы в Клагенфурте 23 июня 2004 года
Раз в году в комнату заносили теленка и укладывали на диван. На протяжении дня через каждые полтора часа моя бабушка говорила: "Облако тикает мне в голову". Одно с другим связано. В начале лета дед поехал на телеге к реке набрать песка. Он слишком долго простоял в холодной воде и уже на следующий день почувствовал режущую ломоту во всем теле, как будто даже дома о его плоть билась река, кружа в ледяных водоворотах. Дед почти не мог двигаться. Стоило ему шевельнуться, как тело словно разламывалось на куски. Врач в городе сказал, что нервы у деда в затылке окоченели от холода. От нервов, мол, мы все зависим, это такие нити, что тянутся от мизинца аж до малого пальца на ноге и делают нас гибкими. Нити в затылке удерживают нас и при ходьбе, без них мы бы свалились, как чурбаки.
Врач сделал деду на затылке операцию, она не удалась. Дед лежал как колода, когда его из больницы отослали умирать домой. Мне, ребенку, объяснили, что врач вместо того, чтобы нити в затылке связать, их все перерезал. С тех пор для меня слово "связывать" имеет большое значение. То, что суставы нас слушаются, не обходится без СВЯЗЫВАНИЯ, иначе мы свое тело не смогли бы отправить на ночь спать, а утром поднять для дня. Оно в нашем распоряжении, пока как следует связано. После — мы в его распоряжении.
Умирать деда отослали до того, как я родилась, но он пролежал в постели до моих двенадцати лет. Лежание причиняло ему боль, оно было мучительным, кожа — как сплошная рана. Он лежал на трех надутых резиновых мешках. Один — поперек плеч, другой — на крестце, третий — под коленями. Для меня в детстве его стоны были чем-то таким же обыденным, как для других человеческая речь. Они являлись принадлежностью комнаты, где он лежал, будто голос был не его, а воздуха или мебели, стены, плафона или двери. Каждые полтора часа деда поднимали и клали на мешки чуть по-другому, слегка повернув на правый или на левый бок. Он весил немного, но для того, чтобы поднимать и перекладывать его двенадцать раз в сутки, это было немало.
Куда бы бабушка ни пошла — на двор, к соседям, на огород или в поле, — повсюду она двенадцать лет таскала с собой в сумке будильник. Сумка была сплетена из полосок черной и красной кожи, засаленных и обвисших от частого пользования. Сапожник трижды пришивал новые ручки, они протирались. Будильник в сумке звонил через каждые полтора часа, когда бабушке пора было поворачивать своего мужа. Заслышав звон, она все бросала и мчалась домой. Стоило ей немного опоздать, как страдалец кричал на нее, загнанную, что он не хочет кричать, но не кричать не может. А она кричала ему в ответ, что она не хотела опоздать, но иначе не могла. Двенадцать лет ее существованием и его умиранием дирижировал с полуторачасовым интервалом будильник, оберегая и подавляя.
А раз в году мой отец заносил новорожденного теленка в комнату деда и клал напротив кровати на диван, чтобы дед теленка мог видеть. Диван был обит зеленой тканью, разрисованной пионами. Теленок лежал на пионах в головах дивана, я садилась рядом на те же пионы, но в ногах. Страдалец, наверное, целых полчаса глядел неотрывно на теленка, будто считал на нем волоски. Меня он при этом вообще не замечал. И я больше поглядывала не на него, а на теленка и на пионы величиной с кулак. Многие совсем раскрылись, и внутри у них виднелась кудрявая желтая сердцевина. Иногда мой взгляд сталкивался со взглядом деда. Это походило на обмен ударами, смотреть прямо в глаза считалось недопустимым. Между нами, думается, недоставало близости, чтобы это вынести, чтобы увидеть друг друга насквозь. У страдальца в глазах горел восторг. Его взгляд, сверкающий нестерпимым голодом, был устремлен на теленка. Испытать ртом такой беспощадный голод невозможно. Ведь когда голоден рот, еды становится все меньше, съедаемое исчезает в глотке. Но когда голод в глазах, съедаемое, не уменьшаясь, торчит перед глазами. Поскольку съедаемое никак, ни на миллиграмм даже, не убывает, его становится тем больше, чем дольше едят голодными глазами. От разглядывания оно уродливо разбухает, восприятие соприкасается с материалом воспринимаемого объекта, и сам объект все больше отдается зрительному голоду. Страдалец домогался своей доли в этой свежей новорожденной телячьей плоти. Счастье не переполняло его, а охватывало и волочило за собой. У него было измочаленное счастьем лицо.
Читать дальше