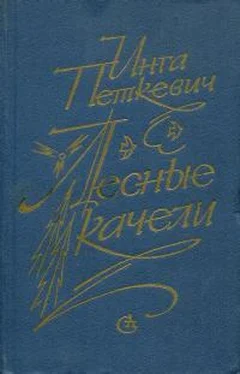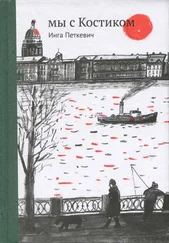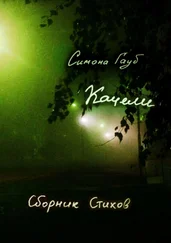В последний раз Егоров ездил на поезде лет двадцать тому назад. Он и думать забыл о столь допотопном средстве передвижения. И когда порой ему случалось наблюдать с самолета далеко внизу эту неуклюжую зеленую гусеницу, она интересовала его только как часть пейзажа. Поезда возили лес, полезные ископаемые, скот, возможно даже людей, но людей какой-то иной категории или породы: дачников, например, или курортников, — словом, каких-то странных людей, которые не умели летать…
— Груз был отправлен малой скоростью, — сказал Егоров, с комическим недоумением и даже опаской разглядывая вполне современный вагон.
— Смотри не прыгай на ходу! Не высовывайся из окна! — добросовестно подыгрывали друзья.
Все дружно хохотали, но всем было невесело. И бодрость их, подогретая коньяком в привокзальном ресторане, была наигранной. Почти все они отлетали свое. Отлучение от полетов давалось нелегко. И как ни готовили они себя к неизбежности этого отлучения, оно всегда было неожиданно и болезненно, будто их внезапно столкнули с неба на землю, ходить по которой они давно разучились.
Егоров чудил. Поездка по рельсам и зарок никогда больше не подниматься в воздух были последними фокусами в его программе. Он чисто и красиво выполнил ее всю до конца по всем законам высшего пилотажа, и пусть теперь глядят ему вслед — он даже не обернется. Перед ним новая жизнь, где нет места прошлому, нет места воспоминаниям у костра, нет места этим дурацким рыбалкам под рев знакомого двигателя. С него хватит! Нет больше летчика Егорова, отставника Егорова. Есть еще не старый человек, и ему найдется место в жизни. Настроение у него было приподнятое, почти радостное возбуждение не покидало его. Он чувствовал себя тем же лихим пацаном, который много лет назад бежал из деревни в город, бежал, чтобы научиться летать. И он летал, летал, летал, все не мог налетаться. Все ему было мало. Так заигравшийся, зарвавшийся ребенок, забывший всякое благоразумие, уже не в силах взять себя в руки, остановиться и трезво оглядеться вокруг.
Он летал из последних сил, и он налетался всласть. Его ждут другие дела!
Все эти доводы адресовались капитану Глазкову. Но тот не принимал вызова.
…И только когда толпа пассажиров устремилась в подземный переход по направлению к платформе и Егоров вместе со всеми оказался в сумрачном бетонном коридоре, на повороте его занесло, он оглянулся и увидал, как темный знакомый силуэт отделился от серой стены. Зябко поеживаясь и все глубже пряча кулаки в карманы кожаной куртки, нехотя, почти лениво, будто с трудом преодолевая отчуждение, он исподлобья глянул на Егорова. Этот холодный взгляд издалека…
«Может, хватит чудить-то? — казалось, говорил этот взгляд. — Зарвался ты, папаша…» И столько сожаления, столько горечи и боли было в этом взгляде, что Егоров споткнулся, и Глазков тут же исчез. Вместо него возник знакомый механик Скворцов. Он стоял возле серой стены, рылся в своем бумажнике и ворчал что-то себе под нос. Он не был похож на Глазкова. Просто Егоров обознался в сумраке коридора. Он догнал друзей, и они все вместе выбрались на поверхность.
— Просьба всех пассажиров занять свои места, — строго говорила молоденькая проводница.
Было половина двенадцатого. Поезд отходил через семь минут.
— Ничего, это еще не трагедия, — неожиданно для себя сказал Егоров.
Друзья проникновенно закивали.
— Пора забираться на эту карусель, — усмехнулся он, и выражение его лица стало таким, какое бывает у взрослых, когда они садятся на детскую карусель.
Друзья засмеялись. Егоров взялся за поручни и одним махом перенес свое тело в тамбур. Когда же он оглянулся, чтобы послать друзьям прощальный привет, то не поверил своим глазам. Платформу осаждали цыгане. Они вылезали снизу, из-под платформы, вытаскивали детей, старух, собак, мешки, узлы, сундуки и все вместе устремлялись на штурм вагона. Бедная проводница с красным флажком в высоко поднятой руке отважно загородила своим телом подступы к дверям, но тут же была подхвачена, как соринка, занесена в вагон, заброшена в дальний закрытый тамбур и забаррикадирована там намертво.
Читать дальше