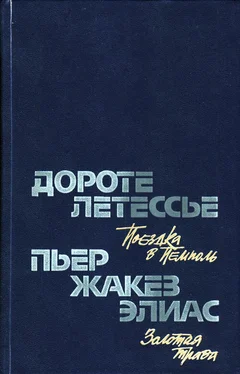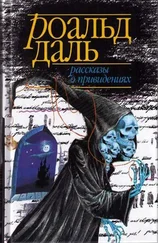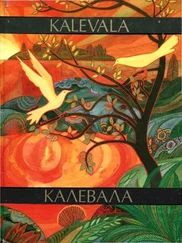— Ничуть не удивлюсь. Ведь она — жена Корантена. А и сам Корантен, если вдуматься, внушает полное во всем доверие. Некоторые говорят, что он и болезни способен вылечивать одним своим присутствием возле больного. А уж если он отправился искать себе жену в горы — это ведь тоже неспроста.
— Другой, пришедшей с ней, женщине я уступлю свою кровать. А себе приспособлю сенник там наверху — на чердаке. Она, наверное, еще девушка. Заметили, какая она застенчивая? А возможно, она оцепенела от холода — бедная малютка. В этом возрасте — такие еще хрупкие. А я, со своей дурьей башкой, даже не потрудилась выяснить у нее — кто она? Мы — невежи, Нонна Керуэдан, и вы, и я. Я до такой степени была поглощена Эленой Морван и тем, что она говорила, вот совсем никакого внимания и не обратила на ее подругу. Для меня была важна лишь Элена. Никого и ничего вокруг, кроме нее. Я и до сих пор еще не пришла в себя.
— Не думаю, что вам придется оставлять у себя на ночь девушку, которая пришла с Эленой Морван. По-моему, она из Логана. Она всего лишь указывала, как к вам добраться. При такой погоде не очень-то удобно, а то так даже и опасно, когда не знаешь местности. Наверное, провожатая скоро уйдет.
Мари-Жанн разбивает яйца над миской, которую она вынула из молочного шкафа. Вдруг она замирает.
— Из Логана? Вполне возможно. Ведь я-то в Логане мало кого знаю. Я не как все, Нонна, вы, с тех пор как спустились на землю, вечно толчетесь между набережной и площадью.
— Могу сказать одно, она не могла сопровождать Элену от ее деревни в таком тяжелом морском плаще, который к тому же слишком ей велик. Подобные плащи можно найти тут во многих домах. Женщины накрываются ими иногда, когда в непогоду им надо пойти в город или в ближайшие деревни. Да вы ведь и сами не раз это видели.
— Да, я их видела. Но, повторяю вам еще раз, я ни на что не обратила внимания, кроме Элены. Во всяком случае, эта особа не уйдет отсюда, не отведав моего омлета и не выпив моего кофе. А на закуску еще и горячего грога. Найдите бутылку домашнего вина, Нонна, она внизу, в буфете.
Она энергично принимается взбивать яйца. Тут появляется Элена в сопровождении девушки, которая прижимается к стене, в затененной глубине комнаты. Мари-Жанн замирает с поднятой в воздух вилкой.
— Уже постелили? Работа не залеживается у вас в руках.
— Нас двое. Так куда сподручней.
— Я забыла вам только что сказать. Для пришедшей с вами я уступлю свою кровать. В моем доме найдется другой уголок, где я могу расположиться.
— В этом нет нужды. Она живет неподалеку.
— Живет неподалеку? Тогда, возможно, я ее знаю?
— Думаю, что да. Ее имя — Лина Керсоди.
— Лина… Керсоди.
Мари-Жанн Кийивик внезапно съеживается, словно от удара. Медленно опускает она вилку в миску. Животом и обеими руками упирается в стол. Не решается оглянуться. Чередующиеся картины как бы из волшебного фонаря проходят в ее сознании, доводя до головокружения.
Перед ней встает картина ее посещения Лик Малегол три недели тому назад, причинившее ей самое большое унижение за всю ее жизнь, единственное, которое действительно больно ранило ее самолюбие. И тем чувствительнее оно было, что она сама на него нарвалась, хоть и против своей воли, а оскорбление еще удваивалось унижением ее сына, теперь уже единственного.
Он ведь совсем изнемог, бедный Ален Дугэ, до того велики были его муки, что и не определишь их размера! Характер у него испортился, он уже не владел ни жестами, ни словами, а кто лучше матери мог это понять! На «Золотой траве», будучи занят там наравне с другими членами экипажа обычной работой, рассеивавшей его мрачные мысли, он, возможно, и вел себя как обычно, иначе Пьер Гоазкоз, который очень чутко замечал любую перемену настроения своих матросов, так же, как и погоды, предупредил бы Мари-Жанн Кийивик, что ее сын впал в тоску. Но, когда Ален возвращался домой, а он шел туда с барки прямиком и уже никуда не выходил до тех пор, пока не наступала пора вновь подняться на «Золотую траву», — он не переставая кружил по своей комнате, едва прикасался к еде за столом, это он-то, у которого был всегда неуемный аппетит, или целые дни проводил в маленькой мастерской, которую устроил себе в глубине сада, но не за работой, а засунув руки в карманы с такой силой, что даже парус лопнул бы. Он ни слова не произносил, но иногда слышалась ругань в адрес неодушевленных предметов или же он грубо обрывал мать и Корантена Ропара, которые были бессильны его умиротворить, но ничего такого не говорили и не делали, что могло бы оправдать тот гнев, который он на них обрушивал.
Читать дальше