И тут прозвучал выстрел.
Услышали его все, несмотря на адский шум; стреляли явно жаканом, скорее всего из двустволки, а может, из какого-нибудь допотопного ружья, какие до сих пор еще хранятся в деревенских домах – на чердаке или в подполе – чуть ли не по всей Франции. Стреляли в воздух, но Гильерм Рамонден, которому почудилось, что шальная пуля просвистела мимо его щеки, тут же со страху обмочился. Все завертели головами, пытаясь понять, откуда прилетела пуля, однако в темноте никто ничего не видел. Моя мать, воспользовавшись тем, что палачи, безжалостно молотившие ее, вдруг разом замерли, стала ползком выбираться из толпы, вся израненная, окровавленная. На теле у нее было более десятка глубоких ран, волосы во многих местах выдраны с мясом, кисть руки насквозь проткнута палкой, так что рука с растопыренными пальцами повисла плетью.
Внезапно наступила такая тишина, что были слышны лишь звуки пожара – страшные, библейские, апокалипсические. Люди замерли, выжидая и вспомнив, возможно, треск ружей во время расстрела у церковной стены. И души их содрогались при виде сотворенной ими кровавой расправы. Как раз в эту минуту – то ли со стороны кукурузного поля, то ли со стороны горящего дома, а может, и прямо с небес – раздался голос, мужской, звучный, повелительный, такого голоса невозможно было не послушаться:
– Оставьте их в покое!
Мать все продолжала ползти. И толпа смущенно расступалась перед нею, точно пшеница под ветром.
– Оставьте их в покое! Расходитесь по домам!
Впоследствии люди утверждали, что голос вроде был знакомый. И выговор местный, но кто это был, толком определить так и не сумели. Кто-то истерически воскликнул: «Это же Филипп Уриа!» Но Филипп был мертв. По толпе пробежала дрожь. А мать тем временем уже достигла края поля и, словно бросая своим мучителям вызов, поднялась на ноги. Кто-то ринулся было к ней, пытаясь задержать, но, видно, передумал. Отец Фроман проблеял нечто жалкое, призывая к миру и порядку. Прозвучала еще пара злобных выкриков, которые тут же и погасли в холодном, суеверном молчании толпы. Дерзко поглядывая на наших мучителей и стараясь держаться к ним лицом, я стала осторожно пробираться к матери, отчетливо чувствуя их общую злобу и ненависть; лицо мое горело от жара, в глазах отражались языки пламени, плясавшие над нашим домом. Подойдя к матери, я взяла ее за здоровую руку.
Перед нами простиралось огромное кукурузное поле Уриа. Мы молча нырнули в кукурузу. И никто за нами не последовал.
А потом мы – Кассис, я и Ренетт – перебрались к тете Жюльетт. Мать пробыла там всего неделю и куда-то исчезла – под тем предлогом, что ей необходимо поправить здоровье; но, по-моему, ее гнало чувство вины, а может, и страха. После этого мы видели ее всего несколько раз. Как мы поняли, она сменила фамилию, вернувшись к своей девичьей, и уехала на родину, в Бретань. Все прочие подробности ее жизни были нам известны весьма смутно. Я слышала, что она вполне благополучно существует за счет своей фирменной выпечки. Кулинария всегда была ее главной любовью. Несколько лет мы жили у тети Жюльетт, потом при первой же возможности тоже разбрелись кто куда; Рен попыталась пристроиться в кино, о котором столько лет грезила, Кассис сбежал в Париж, а я – в замужество, довольно скучное, но уютное. Затем мы узнали, что наш дом в Ле-Лавёз пострадал от огня лишь частично, выгорела его передняя часть, а хозяйственные постройки на ферме оказались и вовсе почти не тронуты огнем. В принципе можно было бы вернуться, но известие о расстреле в Ле-Лавёз уже стало достоянием гласности, как и то, что наша мать признала свою вину в присутствии четырех десятков свидетелей. Ее слова: «Да, я была его шлюхой, но ничуть не жалею об этом… Его убила я… Я бы тысячу раз убила его!», как и те чувства, которые она прилюдно выразила по отношению к своим землякам, оказались вполне достаточными доказательствами ее вины. И люди вынесли ей соответствующий приговор. А десяти мученикам, Жертвам Великой Резни, воздвигли памятник, и по прошествии времени, когда этот памятник уже превратился в достопримечательность, когда боль утраты и весь тот ужас несколько улеглись, стало совершенно ясно: враждебное отношение к Мирабель Дартижан и ее детям поселилось в Ле-Лавёз навсегда. Так что мне пришлось посмотреть правде в глаза: в родной дом мне уже никогда не вернуться. Никогда. И в течение очень долгого времени я отгоняла от себя любую мысль о том, как сильно по нему скучаю.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
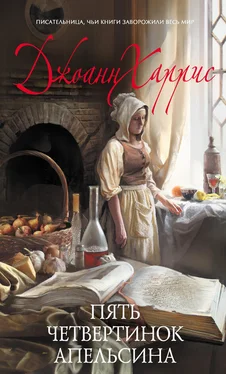







![Джоанн Харрис - Земляничный вор [litres]](/books/403049/dzhoann-harris-zemlyanichnyj-vor-litres-thumb.webp)
![Джоанн Харрис - Джентльмены и игроки [litres]](/books/419804/dzhoann-harris-dzhentlmeny-i-igroki-litres-thumb.webp)

