— Завтра среда. Ты увидишься с Летицией…
Она глядит на меня из глубин подушки жуткими глазами и, посасывая лапу старого плюшевого мишки (его лапы ужасно похожи на перехваченные ниточкой мужские яички), шепчет:
— Не хочется мне туда идти, мам. Не хочется, и все…
Я в ступоре:
— Детка, что ты такое говоришь, ты же так радовалась! Не понимаю!
— Ой, мам, пожалуйста! — отвечает она, сложив ручки. — Умоляю! Я просто не хочу туда идти.
Я говорю, что Летиция ее ждет, готовит праздник, что она ведь обещала прийти. Ноль эмоций. В конце концов Жюли разревелась и, всхлипывая, просила меня не заставлять ее туда идти.
В среду утром становится ясно, что Жюли осталась при своем решении: каждый раз, как я упоминаю возможный поход к Летиции, она сжимается, скукоживается и всем своим видом выражает отчаяние.
После обеда она сидела дома и играла с Артуром.
Ближе к вечеру я ей предлагаю позвонить Летиции и извиниться. Новый приступ паники, судорожно сжатые, молящие руки и неописуемый ужас, как будто я собираюсь бросить ее в подвал с пауками.
Я в недоумении отступаюсь и обещаю себе попозже непременно с ней об этом поговорить.
Через несколько дней мне звонит папа Летиции, который устраивал тот день рождения. Его дочка прождала Жюли весь вечер, не притронулась ни к пирожным, ни к подаркам, ждала, когда подруга придет, чтобы начать праздновать.
— Не понимаю! — говорю я. — Это же день рождения, она позвала кучу других детей…
— Вовсе нет, — отвечает разгневанный папа, — она позвала только вашу дочь и сказала про большой праздник, чтобы сделать ей сюрприз.
Я начинаю сконфуженно извиняться, обещаю, что Жюли все исправит, пригласит к себе Летицию в следующую среду. Кладу трубку и иду к дочери. Требую объяснений. Она хочет, чтобы я пообещала ее не ругать, если она скажет мне правду. Я отвечаю, что никогда, никогда в жизни я ее не накажу, даже если она сознается в какой-нибудь величайшей глупости. Ну, ты же меня знаешь… произношу целую пламенную речь о Ее Величестве Правде, и как она помогает разобраться в себе, и как дает мужество оставаться самим собой, непохожим на других, и как подталкивает вперед…
— Когда лжешь, ты обманываешь сама себя… Перестаешь быть собой, становишься той девочкой, какую ты придумала, и уже не понимаешь, кто ты есть. Люди лгут, когда у них не хватает смелости взглянуть правде в глаза.
В общем, я была весьма горда собой. Говорила себе, что подобными речами делаю дочь тверже, даю ей нравственный стержень, что это задел на всю будущую жизнь. И напрочь забыла, что вообще-то пришла поговорить о Летиции.
Она очень серьезно слушает меня, какое-то время молчит, а потом и спрашивает:
— А тогда почему ты не уходишь от папы?
У меня отвисает челюсть и перехватывает дыхание. Одна фраза — и все мое двуличие разлетается вдребезги.
— Почему ты так говоришь?
Она не отвечает. В глазах — растерянность и испуг.
— Ты обещала не ругаться…
— Я и не ругаюсь…
— Но вид у тебя недовольный…
— Я просто удивлена. Даже очень удивлена.
— Ты же сама хотела поговорить…
— И правильно хотела…
— Ты вечно злишься на папу… Сейчас нет, сейчас ты притворяешься… Но обычно…
Я стою, не в силах произнести ни слова. Окаменевшая. Меня разоблачили. Это я маленькая девочка, а она — мать. Мне хочется положить ей голову на грудь, и чтобы она рассказала про все мои обманы, про напускной энтузиазм и неподдельную трусость. И чтобы погладила по головке, утешила. Чтоб дала мне своего яйцелапого медведя, пустила меня к себе в кроватку и убаюкивала. Пока я не усну.
— Я не хотела тебя огорчать…
— Нет, ты меня не огорчила…
Я успокаиваю ее и заодно себя. Собираюсь с мыслями. Беру себя в руки. Начинаю весь разговор заново. Оставляю свой менторский тон, мы с ней теперь равны. Жюли, видимо, чувствует это и готова пооткровенничать.
— Так почему ты все-таки не пошла к Летиции?
— Я испугалась.
— Чего ты испугалась?
Читать дальше

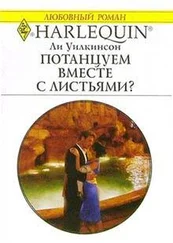
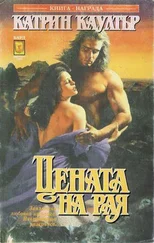






![Юлия Бум - Мелодия моей жизни - потанцуем? [СИ]](/books/424484/yuliya-bum-melodiya-moej-zhizni-potancuem-si-thumb.webp)

