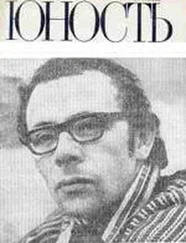Раскольников Родион, размозжив голову старухи топором, внимательно вгляделся в ее лицо, когда она упала. То же сделал и я: тотчас же присел на корточки и заглянул в лицо Молвы, уже не искаженное, но уже, как по волшебству, медленно бледнеющее. С полминуты я так и сидел, глядя на него, лежащего с поджатыми к груди коленями, на боку, — и белоснежная медвежья шкура медленно окрашивалась кровью, — пока не убедился, что Яхнина уже нет здесь, в этом кабинете, и никогда уже не будет.
* * *
…и разглядываю темные окна его бывшей квартиры, и меня трясет сильней, чем в те преступные мгновения. Неужели я пришел сюда, чтобы убедиться, что Яхнин действительно мертв?
* * *
…а еще через пару дней, а именно двенадцатого июля я покупаю у кореянки около главпочтамта три красные розы в блестящей и шуршащей фольге и направляюсь к остановке аэропортовского автобуса. На голове у меня свежая повязка — сменил в больнице, я слегка прихрамываю, но я чисто выбрит и свеж, и в новых джинсах и голубой безрукавке, которые позволил себе приобрести.
Вдруг кто-то окликает меня.
— Андрей Дмитриевич, добрый день!
Я невольно вздрагиваю, увидев этого знакомца, этого щеголя с неизменным «дипломатом» и птичьей фамилией, и я изображаю улыбку.
— Здравствуйте, — говорю, — Виталий Ильич. И пожимаю ему руку.
(Фатум, фатум! Минуту назад я почему-то вспоминал о Чиже.)
— Рад вас видеть в добром здравии, — улыбается золотозубый.
— Не совсем, но… Спасибо.
— С цветами! Какое-то событие?
— Да, можно сказать так. Вызволил с сибирских рудников свою семью. Еду встречать.
— А, вон что! Рад за вас. Уже работаете?
— Да, приступил. Кстати, собирался позвонить вам на днях.
— Да? Зачем?
— Согласно договоренности.
— Какой… напомните.
— Наша рубрика «Криминал» нуждается в материалах. Вы обещали, что…
— Да, понял, понял, — перебивает он. — Увы, Андрей Дмитриевич, пока еще рано.
Я хмурюсь. Я вроде бы хочу сказать ему, что как журналист и бывший приятель Яхнина недоволен медлительностью и неэффективностью следствия.
— Что поделаешь, Андрей Дмитриевич, — вздыхает Чиж. — Тяжелый случай. Впрочем, конфиденциально могу вам сказать. Но конфиденциально, не для пера, хорошо?
— Хорошо.
— Взяли мы одного. Есть серьезные улики.
— Кто такой?
— Имя не обязательно. Связан с мафиозными структурами. В свое время угрожал Яхнину.
— Это уже кое-что, — выдавливаю я из себя.
— Есть серьезные улики, но…
— Но?
— Нужна полнота доказательств. Словом, Андрей Дмитриевич, мы не бездельничаем, поверьте, — как бы оправдывается он передо мной, как перед высоким начальством.
— Дадите знать, если что-то прояснится? Мой рабочий телефон… — Я называю номер.
Чиж обещает, что позвонит, и, золотозубо улыбаясь, прощается.
— Всего доброго!
— Всего доброго, Виталий Ильич, — вежливо отвечает убийца Кумиров. Нет, далеко ему все-таки до следователя Порфирия Петровича, который «расколол» Родиона Раскольникова.
* * *
Из-за железной ограды я смотрю, как пассажиры спускаются по трапу ИЛ-76, а затем пешком, вслед за аэропортовской работницей, как за поводырем, идут через летное поле к выходу. Мои любимые — одни из последних. Ольга несет малышку на одной руке, а в другой у нее тяжелая сумка, которая перекосила ее плечо. Наверняка, тещины гостинцы, какие-нибудь дурацкие банки с вареньем, привезенные чуть не через всю страну. Ольга в джинсах и легкой курточке. Сильный ветер раздувает и путает ее длинные волосы. Малышка ухватилась рукой за ее шею… она в красно-голубом костюмчике… я не верю своим глазам — так она выросла, эта бывшая кроха. Я раздуваю ноздри, глубоко втягиваю воздух, чтобы успокоиться, но сердце, словно слетев с тормозов, как-то придурошно пляшет груди.
Приближаются. Приближаются. Глаза Ольги беспокойно мечутся по толпе встречающих, разыскивая меня, но не видит она своего благоверного или видит, но не узнает. Да вот же я, слепошарая! Вот же я!
Входят в открытые ворота, и тут Кумиров, с неожиданным всхлипом, со спазмом в горле протискивается к ним и хватает жену за локоть.
— Стоп, Кумирова, таможенный досмотр. Чей ребенок?
Сумка шлепается на асфальт. Какое сильное «ах» раздается! Или «ох».
Я обнимаю их обеих сразу и попеременно — то одну, то другую — целую туда-сюда: в губы, в лобик, в глаза… и Машенька, скривив свою светлую мордочку, заливается своим испуганным плачем.
— Не узнала… Она тебя не узнала, — лепечет Ольга, оправдываясь. — Глупая, это же папа! Слышишь, дурашка? Это же папа, — успокаивает она малышку.
Читать дальше