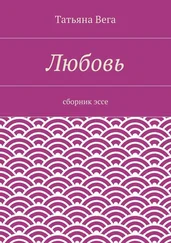Выжив при первом знакомстве с миром, я вовсе не рассталась с темой смерти. Хотя я не различала слов, будучи младенцем, все же я впитывала атмосферу и, как говорят о домашних животных — «все понимала». Понимают даже растения, знаю по своим. Ну, что калатея протягивает к балконной двери все свои семь листьев, разрисованных розовыми полосами? Она показывает, что ее пора унести в дом, жарко. Всякая живая клетка что-нибудь да понимает. Так вот, бабушке сделали первую раковую операцию в год моего рождения. До дня ее смерти их было сделано одиннадцать. Сначала бабушка отложила смерть, потому что хотела на меня посмотреть. Так думаю я, но она думала, может, не обо мне — о моей маме, хотела удостовериться, что ее жизнь по всем параметрам устроена: работа в Министерстве культуры СССР уже есть, теперь нужна аспирантура, кандидатская, надежное место в научно-исследовательском институте, замуж выдали — хороший муж (мой отец), из «сплоченной советской» семьи, уже в партию вступил, трудится в Министерстве культуры, но в другом, РСФСР, что лучше, чтоб не мозолить друг другу глаза.
Вот-вот родится ребенок, дочь в роддоме уже две недели, и все никак, а тут — ужасное событие, умерла мать, без пяти минут прабабка, и это надо скрывать, потому что роженица должна быть спокойна, иначе, не дай бог, осложнения будут и ребенок может погибнуть. У бабушки со смертью были простые, даже близкие отношения. Не только потому, что в любом ее возрасте, начиная с преждевременной юности, из десяти ее знакомых в живых оставался один. И из двадцати, и из тридцати — один. Этого уже достаточно для особых отношений с потусторонним миром, но было и нечто более весомое. Она привыкла всматриваться в бездну — чтоб не потерять из виду своего погибшего на войне сына. В России не было десятилетия, когда не убивали бы сыновей, наверное, поэтому моя мама хотела только девочку.
Мое рождение вызвало прилив вдохновения у очень больной и очень уставшей от жизни бабушки. Ей захотелось жить дальше. Так получилось, что воспитывала меня она, руководила жизнью семьи она, она передала мне столь мощный импульс, что потом всю жизнь я скучала по тому нашему дому, именно по такой семье и такой любви, но мне никогда не удалось воссоздать в своей жизни ничего подобного великолепию первых десяти лет. Оно ушло вместе с поколением бабушек-дедушек. Следующие поколения шли по пути нарциссизма — и дошли до точки, в которой даже самого себя любить лень.
Я пишу сейчас это не потому, что соскучилась по эре бабушки больше обычного, даже наоборот, я перестала возвращаться к детству, надеяться на то, что снова вспыхнет именно такой свет; возможно, я раскопала его в самой себе и перестала выжидательно вглядываться в окружающий мир. Зато во мне заговорил голос крови, истоков, истории, мне стало не хватать знания прошлого и отношений с этим прошлым. Когда-то я тешила себя идеей, что я не русская, не советская и даже не антисоветская, что я — просто я, выбрала ауру европейской культуры и хотела бы как можно меньше вникать в дебри «с названьем кратким Русь», потому что история России вызывает у меня досаду, а советский ее период — леденящий ужас. Только пожив в других странах, пережив надежду конца века, что Россия сбросит лягушачью шкуру и обернется румяной царевной, я поняла, что я плоть от плоти, и чем дальше я убегаю от нелюбимой истории, тем больше увязаю в ней, как в болоте. Бабушка — это моя история, и явственное противоречие заключается в том, что она делала революцию, которую я всегда считала величайшим несчастьем и позором, а ее, бабушку, — прекраснейшей из смертных, точнее, бессмертных: я не то что верю в бессмертие, но ощущаю его смутную реальность. У меня недостает инструментария, чтоб увидеть или услышать его. Но мне бы и не хотелось. Я убедилась, что не нужно открывать запретные двери.
Как бы мне хотелось жить? Если бы меня спросили, не как про квартиру на Колхозной, а всерьез спросили бы: в какой стране и в какой семье ты хотела бы родиться? Какой бы хотела видеть свою жизнь, если бы все было возможно? Удивительно, что с самого детства картинка «счастливой жизни» для меня не изменилась, но я ничего не сделала для того, чтоб воплотить ее в реальность. Это тоже было противоречием: картинка одна, а устремление души — другое. Картинка такая: Франция, семья типа Монтескье, это когда фамильный замок Бреда (не имеющий никакого отношения к бреду) переходит из поколения в поколение девятьсот лет, семья в полном составе собирается за ужином, открывается бутылка того, например, вина, которое я пью в данный момент — Pomerol — неподалеку от нашего поместья ( свое вино — не ахти), никто ни с кем не разводился, ни родители, ни их родители, все живут долго и счастливо… Мне самой смешно, когда я пытаюсь эту картинку нарисовать: ясно, что я сбежала бы из такой семьи в студенческую революцию 1968 года, пусть и недоросла еще, все равно, стала бы хиппи, левой (при том что я, здешняя, терпеть не могу левых), писала бы стихи, пытаясь перезагрузить мир, апдейтить его и апгрейдить, а вовсе не сидела бы у камина. Презирала бы изысканный интерьер, отмахиваясь от горничной в белом передничке, ставящей передо мной серебряный поднос с кофейником и молочником от Villeroy&Boch : «Отстаньте же». Меня лихорадило бы от любовных переживаний, я так никогда и не создала бы нормальной буржуазной семьи, потому что… Потому что тогда бы это была не я, а кто-то другой. Да и сегодняшняя потомица основоположника демократии Шарля де Монтескье — бездетная и наверняка унылая старушка. Даже такой могучий род иссяк.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу