Ты и война — Равен, с твоими спокойными нежными руками, твоими чуткими губами. Не могу себе представить.
Когда я это подумала, солнце померкло. Стая ворон, хлопая крыльями цвета листьев дерева ним, пересекла небо над головой. Их унылые крики пали на нас, как предостережение.
В напряженных уголках рта у Равена собрались тени. На его лице обозначились угловатости и темные провалы, вся мягкость ушла. В это мгновение передо мной было лицо человека, который способен на все.
Тило, ты совсем не знаешь его. А между тем всем ради него рискуешь. Это ли не апофеоз глупости?
Высокий гул, как от самолета-бомбардировщика, возникший у меня в ушах, перекрывает слова Равена. Но я уже знаю, о чем он поведет речь.
О комнате умирающего.
— Представь себе эту комнату: полумрак, — говорит Равен, — руки матери на моих плечах, в стремлении защитить меня, и этот старик с разваливающимся телом, но пламенеющим духом. Я, мальчишка в воскресном костюме, попавший как между двух огней: нить противостояния между ними искрит током, как провод под напряжением.
Старик попросил:
— Эвви, оставь нас с мальчиком на минутку, — и когда все тело матери собралось в единое «нет», он добавил: — Прошу тебя, у меня совсем мало времени.
В его голосе звучала такая живая мольба, что я не понимал, как мама могла бы не уступить. Мое сердце кольнула беспомощность в надорванном тоне человека, не привыкшего просить об одолжении.
Но мама стояла и глядела в темноту, как будто ничего не слышала. Точнее, наоборот: как будто она слышала эти просьбы уже не раз и устала от них. И первый раз за всю свою жизнь я увидел, что ее лицо сделалось черствым, недоверчивым и даже уродливым.
Думаю, старик тоже все это увидел. Его тон изменился, стал тоже жестким и формальным. И хотя голос его был не громок, он прогремел в этих стенах рокотом водопада.
— Внучка, — проговорил он, — я надеялся, что не придется этого говорить, но увы. Я прошу этого в качестве возвращения долга за все те годы, что ты жила со мной, за все, что я дал тебе, а ты все уничтожила, покинув нас.
Так я узнал, кто он был для нее и для меня.
— Все, чего я хочу, — продолжал он, — это чтобы у мальчика был выбор. Как был у тебя.
— Он еще слишком мал, чтобы его принуждали к такому выбору, — возразила моя мать сдавленным голосом. Я чувствовал, как к горлу ее подползает страх. Моя мама боится, — подумал я в изумлении, потому что для меня это было совершенно невероятно.
— Когда ты предпочла пойти по другому пути, разве я тебя принуждал? — спросил старик, он делал паузу после каждого слова, как будто преодолевал крутые склоны. — Нисколько. Я позволил тебе уйти, хотя тем самым ты вырвала у меня сердце. Ты же знаешь, я не причиню никакого вреда твоему мальчику.
В окружавшей нас тишине я слышал дыхание слушающих нас людей. Вся комната вдыхала и выдыхала, словно одно огромное легкое.
— Ну что же, — наконец сказала она, убирая руки с моих плеч. — Можешь поговорить с ним. Но только я останусь в комнате.
— Как только мама сняла руки, и сделала шаг назад, — продолжал свое повествование Равен, — это было как будто она забрала с собой весь свет. Нет, позволь, я объясню понятнее. То, что ушло с ней, — был свет повседневности, в котором мы все делаем наши ежедневные дела и который освещает нашу дневную сущность. Но то, что осталось, когда она отступила, не было тьмой, это был тоже свет, но другой, мерцающий красноватый свет, и его можно воспринимать только каким-то особым зрением. И слова. Комната была полна слов, только требовался другой слух, не мой, чтобы их слышать.
Старик не пошевельнулся и не проронил ни слова. Но я чувствовал, как он тянет меня к себе, чувствовал руками, ногами и в самом центре груди. Это было теплое влечение, как будто я и он сделаны из одного материала, земли или воды, или металла, а теперь, когда оказались недалеко друг от друга, притягиваемся, как подобное притягивается к подобному.
Я пошел к нему, а между тем ощущал, как будто что-то тянет меня назад. Мамина воля. Ведь она так старалась отгородить от меня эту часть своей жизни с помощью лакированной мебели и шторок с цветочками, хотя даже тогда я смутно догадывался, что дело заключалось не в самих вещах, а в том, чтобы быть обыкновенной, быть американкой. Ты понимаешь?
…Равен, в чьих глазах я вижу отголосок отчаянного желания твоей мамы, я понимаю гораздо больше, чем ты мог бы предположить. Тило, которая в детстве так хотела быть непохожей на всех, теперь, повзрослев, мечтает о самой обыденной жизни — с кухней и спальней, свежеиспеченным хлебом, с попугаем в клетке, с любовными ссорами, поцелуями и помадой.
Читать дальше

![Энтони Уильям - Еда, меняющая жизнь [Откройте тайную силу овощей, фруктов, трав и специй]](/books/26098/entoni-uilyam-eda-menyayuchaya-zhizn-otkrojte-tajnuyu-thumb.webp)
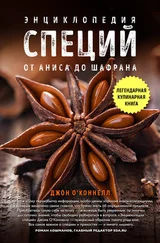






![Лариса Петровичева - Принцесса без короны. Отбор не по правилам [= Принцесса без короны. Неправильный отбор] [litres]](/books/389397/larisa-petrovicheva-princessa-bez-korony-otbor-ne-thumb.webp)


