Ночь в своем зачарованном звездном плаще всегда готова к обманам, особенно когда мы и сами не прочь в них поверить. Только в беспристрастном дневном свете видна истинная сущность мужчины.
Я почувствовала его приближение задолго до того, как он остановился у закрытой двери магазина, глядя на мятую табличку «ЗАКРЫТО». Его тело — воплощение жара, он идет по оживленной улице походкой уверенной, но мягкой, как будто он шагает не по бетону, а по земле.
О, мой Американец, ты застыл в нерешительности, желая и не смея. Я сказала себе: вот сейчас я, по крайней мере, увижу, что он самый обыкновенный человек.
Стоя там, на улице, чувствовал ли он меня? С наружной стороны дверь словно заиндевела, а у меня внутри надрывается протестующий голос: не отвечай. Кричит: ты забыла — сегодня день, посвященный Матери, когда говорить надо только с ней и ни с кем другим.
Я думаю, он его тоже услышал. Потому что не стал стучать. Он повернулся, мой Американец, еще давая мне шанс. Но едва он сделал один шаг прочь, я открыла дверь.
Просто посмотреть. Так я себя убедила.
Он ничего не сказал. Не спросил. Только радость в его глазах показала мне, что он видит что-то более важное, чем мои морщины.
Что же ты видишь?
Американец, мне потребуется все мое мужество, чтобы спросить тебя об этом когда-нибудь. Однажды, может быть, скоро.
И впервые в его сознании я уловила некое движение, как будто водоросль качнулась где-то на дне, глубоко в толще воды, почти незримо в просоленном полумраке.
Это желание. Я еще не разгадала его. Но поняла только, что оно каким-то образом включает меня.
Тило, ты всегда только выполняла чужие желания, но сама никогда не была предметом желаний.
Счастливая улыбка растянула уголки моих губ, хотя Принцессы не очень-то привыкли улыбаться.
Одинокий Американец, ты прошел испытание дневным светом. Ты не показался заурядным. Но я не успокоюсь, пока не отгадаю твое желание.
Я толкнула дверь, ожидая сопротивления. Но она легко поддалась, широко распахнувшись, как будто в приглашающем жесте.
— Заходи, — и слова не липнут к языку и не застревают у меня в горле, как я опасалась.
— Не хотел беспокоить, — проговорил он.
Дверь за нами мягко закрылась. Мой голос отозвался в напряженной гнетущей тишине, как звук колокольчика.
— Как может побеспокоить тот, кого так рады видеть.
Но внутри горстью сухого песка оседает вопрос: специи, вы и правда со мной или затеяли какую-то игру?
— Но я должна тебя предупредить, — говорю я, протягивая моему Американцу чаначур.
В голове стучит: да ладно тебе, Тило, почему бы и нет? В конце-то концов, сам виноват.
Искушение, соблазнительное, как пуховая перина. Так хочется позволить себе утонуть в ней.
Все же нет, Одинокий Американец, я не хочу, чтобы ты потом говорил, что я воспользовалась твоим неведением.
Поэтому я продолжаю:
— Основная специя здесь — кало марич, черный перец.
— Ага, — все его внимание в это время уже на бутерброде, который он нюхает. Специи заставляют его чихнуть. Он смеется, трясет головой, губы сложились, будто он неслышно присвистнул.
— Черный перец обладает способностью вытягивать все секреты.
— А ты думаешь, у меня есть секреты? — с озадаченным видом он отламывает кусок от бутерброда, который крошится у него между пальцев, и запихивает в рот.
— Я уверена, что есть, — говорю я, — потому что и у меня есть. И у каждого.
Я наблюдаю за ним, не уверенная в том, что специя будут работать теперь, когда я раскрыла ее магию. Так я еще не поступала, этот путь для меня нехожен, поэтому что будет в результате — скрыто от меня темным туманом.
— Его не так надо есть? — спросил он, когда еще кусок чаны рассыпался в его пальцах, усеяв грудь рубашки желто-коричневыми крошками.
Я невольно смеюсь:
— Подожди, давай я сверну тебе кулек, как мы делаем в Индии.
Из-под прилавка, где я обычно храню старые индийские газеты, я достаю кусок бумаги. Сворачиваю в конус и кладу кушанье.
— Высыпи немного себе на ладонь. Если ты немного потренируешься, то сможешь даже подбрасывать и ловить ртом, но пока просто подноси руку к губам.
— Да, мамочка, — изобразил он послушного мальчика. Так что сидит сейчас Мой Американец на прилавке, болтая ногами и поедая горячий бутерброд с острыми специями из бумажного кулька, так, будто это для него обычное дело. Он сидит босой, потому что ботинки снял еще у двери. Это ботинки ручной работы из мягчайшей кожи, их блеск не поверхностен, он исходит откуда-то из глубины. Ботинки, которые бы вызвали у Харона зависть и ненависть.
Читать дальше

![Энтони Уильям - Еда, меняющая жизнь [Откройте тайную силу овощей, фруктов, трав и специй]](/books/26098/entoni-uilyam-eda-menyayuchaya-zhizn-otkrojte-tajnuyu-thumb.webp)
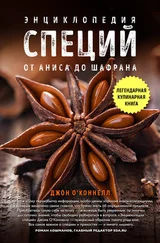






![Лариса Петровичева - Принцесса без короны. Отбор не по правилам [= Принцесса без короны. Неправильный отбор] [litres]](/books/389397/larisa-petrovicheva-princessa-bez-korony-otbor-ne-thumb.webp)


