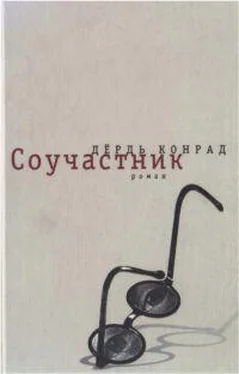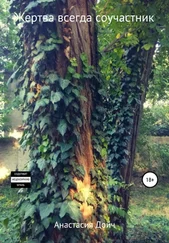Выбирается из своей телеги, забитой копченым салом и самосадом, и карнавальный герцог, у которого после контузии мозги съехали с катушек; широко улыбаясь беззубым ртом, ухая, ахая, тоже идет вприсядку среди почерневших подсолнечных бутылей. В следующей деревне он входит в первый попавшийся двор, требует бабу и палинки, жует лук, высасывает из скорлупы сырое яйцо, берет на руки младенца, вытаскивает из печи испачканную сажей старуху, снегом оттирает ей щеки, сердится, что она так себя изуродовала, стреляет в винную бочку, наполняет вином сумку противогаза, ощерив беззубый рот над колодцем, блюет туда, обнимает хозяина, рассказывает тому, что дома оставил точь-в-точь такого сына, была у него и кошка, как, должно быть, плачет сейчас по нему, дай мне, братишка, какую-нибудь простыню, портянки к черту сопрели, а кто это там в подполье шевелится, Гитлера прячешь там, мерзавец, нет Гитлера, теленок, а-а, жалко, что застрелил, ну, раз уж так вышло, клади его сюда, на телегу, мы ведь вам не враги, ну, мы поехали, нет, браток, не уговаривай, не останемся, дай поцелую тебя на прощанье; и везет дальше своих шлюх и свой триппер, везет дальше своих вшей и свой тиф. Сидят на крыше вагона с углем перепуганные путники, солдатам нужно немного угля, нужны им и сигареты, но языковой барьер вносит сумятицу в масштаб явлений, людей сгоняют с вагона, обшаривают у них карманы. Отцепляют от тронувшегося состава паровоз, поджигают буржуйские книги, в китайской вазе дают овса лошадям, пририсовывают усы деревянной мадонне, увозят мужика чуть-чуть, всего-то до соседней деревни, всего-то до соседнего города, всего-то немножко подальше, за Урал, всего на один часок, всего на четыре годика, всего на голодную смерть, увозят, отрывая от рукояток плуга, а если увезут пахаря, то чего оставлять на пашне лошадь? Но и сами они на главной улице городка раздают всем проходящим детишкам желтый сахар, разрешают набить карманы: только что взломали ворота сахарного завода; а если задержатся в доме на день-другой, делают ребятишкам рогатки, выстругивают игрушки из дерева, дров наколют, починят забор, добудут откуда-то кирпичей, подлатают поврежденную снарядом дымовую трубу, заложат пробоины в стене дома; кто знает, может, их женам, там, вдалеке, кто-нибудь вот так же поправит крыльцо или крышу. И всегда среди них находится человек постарше, кто подзатыльником усмирит молокососов, гоняющихся за поросенком, из амбара крепкого мужика отнесет мешок муки на бедняцкий конец; и находится какой-нибудь усатый ефрейтор, который оставит у мужика реквизированного коня взамен уведенного другим усатым ефрейтором. И пышке Гизи не на что жаловаться: ну да, это правда, она в одном платьишке стояла летним вечером у ворот, когда возле нее притормозил вдруг мотоцикл с коляской, и солдатик потоньше, сидевший в коляске, не говоря ни худого, ни хорошего, подхватил ее и посадил себе на колени. А второй дал газ, и она даже с родителями не попрощалась. Зато сколько радости было год спустя, во время сбора винограда, когда у тех же ворот остановился тот же самый мотоцикл с коляской, и тот же худенький русский, плача, высадил Гизи, а рядом с ней поставил корзину с дитем и чемодан, в котором, вместе с пеленками, лежала куча золотых браслетов, потом сел в коляску, а второй, тоже со слезами на глазах, вдавил педаль газа. Ты где была, Гизи, раскрыли рты родители, а Гизи не могла остановиться, все рассказывала свои приключения на дорогах чуть ли не половины Европы и, ложась спать, немного всплакнула, вспоминая ласковых своих мужей.
27
На окраине города в воде — глыба взорванного бетонного моста, отсюда мы прыгали ласточкой в вихрящуюся под быками воду, чтобы она затянула нас на самое дно и мы ладонью дотронулись до торчащих из песка раковин. Отсюда видна темная громада Безглавой башни; гордость моего деда по матери, оберегавшего памятники старины; в сорняках у подножья башни — сморщенные презервативы, вверху, меж бойницами, бесшумно пролетает летучая мышь. Недалеко от моста — кирпичный завод, откуда мой дед по отцу, опираясь на кедровую трость с серебряным набалдашником, совершил свой последний путь к товарному поезду, идущему в Освенцим. Утром я сажусь в кабину истребителя, парадоксальный завоеватель над опозоренным городом, смотрю в бинокль на лица валяющихся внизу мертвецов. По льду реки, петлей охватывающей центр города, скользят человеческие фигуры; на главной улице, по единственной колее, кое-где снабженной карманами, трясутся старые красные трамвайные вагоны, груженные ящиками с боеприпасами. Во дворах доходных домов, у костров, разложенных среди кирпичного крошева, сидят на корточках женщины в теплых платках, помешивая фасолевый суп; приятного вам аппетита, милые; надеюсь, в супе плавает, для вкуса, и кусочек шкурки от сала. Не стреляй, хватаю я за руку летчика, который на бреющем полете тянется к гашетке пулемета. Я вижу булыжные улочки на склоне холма, зеленовато поблескивающие ручьи сточной воды; вижу уксусные деревья во двориках, пустую скамейку, разобранный велосипед и переполох на птичьем дворе, когда начинается зимняя канонада. Мне хочется коснуться печных труб, из которых идет белый — буковые дрова — дым, приземлиться перед собором, чтобы проверить, не поломаны ли носы у святых, охраняющих главный вход. Потом посидеть в столетней, с люстрами и коврами, кондитерской, кося взгляд на плотно сжатые щиколотки гимназисток, на их гольфы и туфельки под белыми, в стиле бидермейер, стульями. Чтобы, подняв глаза, увидеть, как падает на лоб челка от нервного движения головы: ведь что-то же надо было говорить над пуншевым тортом, пусть даже весь мир летит в тартарары; это гордое, словно у жеребенка, движение головы, неосознанное воплощение бунта и непокорности, умножают и преломляют зеркальные колонны. Стреляющая по нам зенитка рассыпает вокруг самолета несерьезные белые клубочки, мы взлетаем повыше; зигзагообразная серебристая каллиграфия в небе города, который меняет хозяина. Для меня эта победа — не победа, на этой земле я — и оккупант, и оккупированный.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу