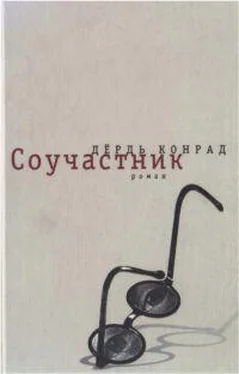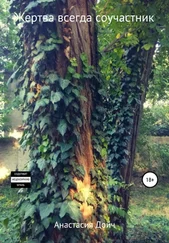Я почти беспрерывно говорю в микрофон; на подступах к родному городу я стал завзятым агитатором. «Прячьтесь по домам, дезертируйте из армии. Не убивайте ни русских, ни самих себя.
У человека одна жизнь, не бросайте ее под танки. Женщины, вы знаете, как трудно вырастить человека, как легко его убить: скажите мужчинам, пусть уходят по домам! Старинная венгерская мудрость гласит: будь травинкой, что гнется под железной подковой. Войска уйдут, вы останетесь; несите им колбасу и мед: если вы уцелеете, будет у вас и колбаса, и мед снова. Солдаты, переодевайтесь в гражданское; у кого есть в голове капля здравого смысла, тот уйдет домой, к жене, тот не станет торчать перед пулями живой мишенью». С охрипшей глоткой, с колотящимся от зверски крепкого чая сердцем, с убежденностью человека, знающего свою силу, с цинизмом, который у маленьких восточноевропейских народов в крови, я кричу и кричу в микрофон, голос мой гремит над городом почти беспрерывно. Я более или менее догадываюсь уже: на континенте нашем господствовать будет тот, кто пустит на ветер больше человеческих жизней; англосаксы жалеют своих сыновей, русские — не жалеют, до сих пор мы лебезили перед немецкими генералами, теперь будем лебезить перед советскими маршалами. «Если все дезертируют, кого мы в плен будем брать», — кисло смотрит на меня Димка. «А никого не будем, — улыбаюсь я в ответ, — Мы — дома, так что чихать я хотел на твою цензуру». «Дай палинки, — говорит Димка, — тогда забуду, что ты сказал». Мы выпиваем; моя агитация уже не приноравливается к ходу боевых действий: отныне я веду свою игру, ее я намерен выиграть хотя бы с минимальным счетом. В соседней деревне солдат-украинец вошел в первый попавшийся дом, хозяина, который вздумал сопротивляться, застрелил, а жену его, с пистолетом в руках, изнасиловал прямо возле убитого мужа. Я вошел туда случайно: двое детей сидели на корточках возле тела отца, глаза их были — как огромные черные дыры. Солдата я отвел к особисту; он огляделся вокруг и застрелил парня. А на меня, смотревшего на него выжидательно и все-таки осуждающе, просто плюнул. Ладно, ничего, каждый из нас сделал то, что должен был сделать; но в дальнейшем, если я пожалею не только застреленного хозяина, но и свихнувшегося солдатика, это будет касаться только меня одного.
Держа у бедра пистолет, я стою перед окном полуразрушенного одноэтажного дома. В боях за город у немцев кончились боеприпасы; я собираюсь бросить в окно ручную гранату, но за секунду до этого в окно вылезает немец и, стоя на подоконнике, размахивает белой тряпкой. Мы с интересом смотрим друг на друга; мне двадцать четыре, ему, может быть, двадцать три; мы оба с ним делаем вид, будто мы — солдаты. Когда дом разваливает пополам взорвавшаяся бомба, выбрасывая чугунную ванну к входной двери, ванна создает прекрасное укрытие для какого-то юного венгра, который не собирается сдаваться. Изловчившись, он одной рукой наполняет ванну кусками штукатурки и прочим мусором; лежа в этом укрытии, он время он времени стреляет и убивает какого-нибудь русского, показавшегося на улице. Наконец смельчака настигает пуля; раненный в плечо, он лежит перед нами, какой-то сержант наводит на него автомат, я отталкиваю его. Пока парня перевязывают, я веду допрос; он лишь на прошлой неделе научился правильно целиться; он решил, что это его долг — защищать город до последнего вздоха. Перед объективом моего бинокля, пригибаясь, мечутся жители моего города, которых выгнали из ветхих домишек на изрытые воронками огородики — копать окопы. Из окна третьего этажа выпрыгивает грузный старик, держась на лету за собственные подтяжки; следом падает женщина в развевающемся халате; языки пламени, заполняя дом до краев, протягиваются, лижут их одежду. Два танка простреливают пустынную улицу; в воздухе еще гудит отзвук набата. Сползает по стене, пядь за пядью, девушка, сползает все ниже и ниже, до самого тротуара; больше ей никогда не подняться. По шиферной, со ржавыми потеками крыше катится из-за трубы молодой человек с ружьем и, лицом вниз, застревает в проволочной петле громоотвода. Девушка снизу, парень сверху стекленеющими глазами смотрят друг на друга. Один из проигравших войну стоит на коленях возле зеленого почтового фургона, кто-то бьет его коленом в лицо, я не знаю, в чем он провинился, кровь из носа течет ручейком по ладони, рот кривится в плаче. Рядом, приставив пистолет к виску стоящего на коленях, с каменным лицом высится сержант-калмык, лоб у него забинтован. Он медлит секунду, не спускает курок; «Постой», — говорю я; он вздрагивает, потом, отмахнувшись, стреляет. На площади топчутся пленные в разных униформах, но все обросшие, в обтрепанной одежде; иные, словно окаменев, вздернули подбородок, другие просто мерзнут, дуют на пальцы, третьи подобострастно улыбаются, глядя в дуло направленных на них автоматов. За какие-нибудь полчаса они с готовностью сбросили с себя все, что в них было солдатского; даже сбившись в кучу, каждый страшится завтрашнего дня поодиночке; землекопы, сапожники, слесари, все они думают, что это, может быть, их последний день; если все же окажется, что нет, не последний, то назавтра они легко свыкнутся с новой ролью и, стоя в очереди к лагерному котлу с баландой, превратятся в новые абстрактные существа, ориентированные на гущу со дна котла. «Вы — венгр? — спрашивает меня один. — Тогда почему вы носите их форму?» Другой толкает его в бок: «Ты что, не видишь: еврей он».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу