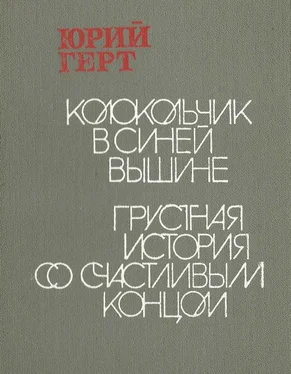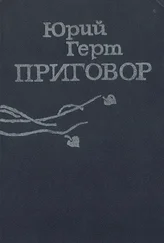До этой минуты, то есть до того, как бабушка вернулась из Ташкента, мы с дедом целый месяц жили легкой, беспечальной жизнью. Он вызволил меня из больницы. Там я оказался с подозрением на сыпной тиф. Тифа у меня не было, всех вшей на себе задолго до больницы я выморил керосином. Они завелись у меня, должно быть, когда мы ехали в теплушке, где кипятку не всегда хватало на то, чтобы выпить чаю, не то чтобы помыться. В Коканде бабушка вычесывала мои волосы частым гребешком. Было приятно лежать, уткнувшись носом ей в колени, и слышать, как пальцы ее нежно разгребают густые космы на моей голове, тихо пламенеющей от непрестанного зуда. Гниды и вши лопались у нее между ногтей с каким-то звучным, жирным треском. «Вошь от печали заводится,— приговаривала она,— от тоски». Приговаривала, чтобы, как мне казалось, разогнать мое смущенье, мой стыд. Отчасти, ей это удавалось. Пока она,сидела надо мной с гребешком, напрягая глаза при дрожащем свете коптилки, я думал об отце, от которого уже год как не было известий, о матери, которая лежала в Ташкенте, в туберкулезном институте, о нашей Ливадии... И мой стыд, мой позор пропадал, таял в сравнении с горькой общей бедой.
Тем не менее признаться в том, что у меня нестерпимо зудело и чесалось, помимо головы, еще и в «стыдном» месте, было выше моих сил. От ребят в школе я слышал, что в таких случаях помогает керосин. Несколько дней от меня припахивало, но средство оказалось радикальным. Однако вскоре меня упекли в больницу, вероятно перепутав тиф с обыкновенной простудой. На всякий случай у меня сбрили волосы. Дед принес мне одежду, и я бежал из больницы, как бежали многие, раздвинув доски в высоком и неприступном на вид заборе. Это было, когда бабушка уехала к маме — проведать и отвезти кое-каких продуктов. Мы с дедом остались хозяйничать одни. Главные наши заботы были нацелены на еду. Мы ели на редкость дешевую и сочную белую редьку и варили затируху из ржаной муки, смешанной с отрубями. Пока я бывал в школе, дед, отстояв длинную очередь на бойне, приносил домой в кастрюльке кровь, которую мы поджаривали на сковородке. Получалась вполне съедобная кашица темно-бурого цвета, мы съедали ее на второе. По карточкам вместо хлеба уже долгое время давали сухари, дед вымачивал их в чашке и сосал беззубым ртом, а я грыз, но вскоре тоже стал делать, как дед, потому что размоченный в кипятке горелый сухарь придавал воде вкус почти настоящего чая. Вместе с другими ребятами я охотился за подсолнечным жмыхом. Он был сладок, рассыпчат. Куски его можно было насобирать вдоль станционных путей, мы жили поблизости от вокзала, в железнодорожном поселке. Кормить таким жмыхом коров, считали мы, это все равно что кормить их шоколадом.
Так жили мы с дедом, в общем-то припеваючи, дожидаясь, когда приедет бабушка и похвалит нас за умение вести хозяйство. Дожидаясь, когда она вернется и расскажет о маме — как ее лечат, какое у нее улучшение, а главное — как она теперь глотает. Потому что еще там, в Астрахани, страшно было на это смотреть — как у нее, начинаясь где-то в горле, при каждом глотке по всему телу проходит судорога, как она отворачивает лицо, бледное боли, чтобы мы не видели его, и ее светлые, зеленовато-серые, такие красивые когда-то глаза жалко, беспомощно наполняются при этом слезами. Глядя на нее, я чувствовал, как и у меня перехватывает где-то под горлом, как самый маленький кусочек там едва-едва протискивается, царапая, причиняя боль... Все это было еще в Астрахани. По приезда в Коканд врачи выписали ей направление в тубинститут, и бабушка повезла ее в Ташкент. Потом она ездила к маме дважды, и теперь мы ждали, когда бабушка вернется или по крайней мере даст нам знать о маме и о себе.
Но она все не возвращалась, и в самом начале было от нее какое-то странное, слишком коротенькое и невнятное письмецо, больше про то, как ей удалось устроиться Ташкенте у нянечки того же туберкулезного института, больше про это, чем про маму, о которой было сказано, что все у нее хорошо, хорошо... Но еще не вполне... Так что понять, как там у них, было трудно.
Стояла зима, дни были коротки, мы рано ложились, экономя керосин. Может .быть поэтому ночи казались мне бесконечными. В темноте мы оба долго ворочались, дед на железной расшатанной койке, я на низеньком лежаке, сооруженном из досок и чемоданов. Мы считали и пересчитывали — сколько дней прошло с тех пор, как бабушка уехала, и сколько с тех пор, как мы получили то, единственное письмо, и сколько дней идут письма из Ташкента, и когда можно ожидать ее нового письма или приезда. Перед отъездом они с дедом ездили в Старый город на барахолку, прихватив тючок предназначенных для продажи вещей. Вернулись домой они без тючка, довольные, с литровой, банкой топленого масла и такой же банкой меда. Все это она увезла с собой, и еще немного кураги, урюка, изюма. И мы с дедом, поправляя друг друга, рассчитывали, на какое время может хватить этого меда и масла — в зависимости, понятно, от того, сколько съедать каждый день, ложку или две. Цифры почему-то действовали успокоительно, вселяли уверенность. Но когда дед выходил покурить во двор и я оставался один, мне делалось страшно.
Читать дальше