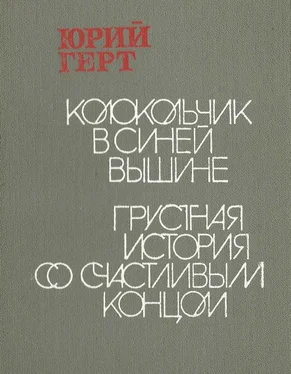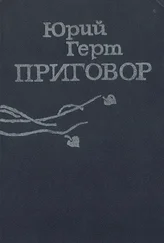Проснувшись однажды утром, я не увидел в теплушке Веры Сергеевны — так, по-моему, звали женщину, которая вступилась за мать. Муж ее был убит на фронте, семья погибла от бомбы — она случайно осталась жива, отлучась куда-то из дома. На станции, которую мы проезжали ночью, она, выйдя из вагона, встретила на перроне свою сестру, они до войны жили в разных городах... Вера Сергеевна перебралась к ней в эшелон. Маме было жаль терять Веру Сергеевну, они за эти дни близко сошлись и даже подружились, но вместе с тем как было за нее не порадоваться?
Мы стояли па каком-то разъезде, неподалеку от небольшой станции, стояли долго, два или три дня. Мы уже свыклись с этим местом, как свыкались прежде с другими, и без особой тревоги ходили на станцию набрать свежей волы, выменять на полотенце или наволочку четверть молока и несколько лепешек впридачу. Казалось, наш эшелон прирос к рельсам. Мимо катились поезда, воинские составы, товарняки, груженные углем и лесом, цепочки гремучих цистерн; слипшись в одно напряженное железное тело, проносились мимо «СО» и «ФД»—«Серго Орджоникидзе» и «Феликс Дзержинский»; все куда-то спешило, мчалось, летело, только мы, было похоже, никогда не тронемся.
Вечерело. Со стороны степи тянуло прохладой, в небе уже светились первые бледные звездочки, вдоль эшелона горели костры, на них что-то бурлило и кипело... За время, что мы стояли, было истреблено множество горбыля, досок, промасленной ветоши и пакли, но запасы топлива все пополнялись, так что я не скупясь подкладывал щепки и под свою кастрюльку, в которой булькала картошка, и под большой, когда-то зеленый, а теперь черный от сажи чайник Ревекки, она была тут же, среди крутившихся у вагона детей. Доварив картошку, я отнес ее в вагон и, пока там ее чистила бабушка, отбежал от состава в степь, за делом простым и естественным, но требующим некоторой уединенности. И в тот миг, когда я посмотрел назад, проверяя, достаточное ли расстояние отделяет меня от теплушки - в тот миг я увидел, что наш состав потихоньку-потихоньку ползет, набирает скорость. Свистнул паровоз. Как и все, кто в ту минуту был на земле, я бросился к поезду, но уже вблизи от теплушки, в которую Ревекка на ходу подсиживала малышей, что-то дернуло меня обернуться.Я увидел опустевшие очажки и костры; на одном из них клокотал чайник, под которым весело горело так старательно вскормленное мною пламя. Я кинулся назад, представив, каково придется бедной Ревекке, если ее усатая тетушка обнаружит, что чайник пропал.
Однако движение поезда вдруг резко убыстрилось. Я растерялся. Выплескивать кипяток было жаль. Держа чайник на отлете, я попытался догнать хвостовой вагон — и увидел только два круглых буфера на торце последней теплушки.
Эшелон ушел. Над степью, как мелкая мука из частого сита, сеялись нежные сиреневые сумерки. Я стоял с чайником в руке, не сообразив еще толком, что произошло. Меня распирало от гордости, что я не покинул в беде, не предал ее чайник.
Только когда глухой перестук вагонных колес и растаявший вдали гудок паровоза сменило степное безмолвие, до меня дошло, что же на самом деле случилось.
Впервые в жизни я оказался в совершенном одиночестве, без друзей, без родителей, без бабушки с дедом.
Сердце у меня сжалось. Над моей головой мерцали звезды — чужие, холодные, недоступные. И расстояние до нашей теплушки, до жилья, до любого человеческого существа в те минуты казалось мне таким же безмерным, как расстояние до этих звезд.
Но тут же я подумал — не о себе, а о том, как было воспринято там, в теплушке, мое исчезновение. Представил, потерянные лица мамы и бабушки, пытающегося утешить их деда. Представил себе их отчаянье, страх за меня, желание и невозможность что-нибудь предпринять... Я вылил воду из чайника и торопливо зашагал в ту сторону, где скрылся наш поезд.
Уже потом я запоздало догадался, что идти мне следовало в противоположном направлении, т.е. к станции, чтобы там подсесть на какой-нибудь состав, движущийся во след нашему эшелону. Возвращаться мне не хотелось. Сумерки над степью густели. Но, глядя в небо, я вспоминал Николая Владимировича, Дубхе и Альтаир, сиявшие над астраханским двором, и мне делалось не так одиноко. Рельсы, тускло поблескивающие впереди, прямиком соединяли меня с нашим эшелоном. Когда ноги устали от шагания по шпалам, я продолжал свой путь по раскатанной колесами дороге, которая тянулась вдоль насыпи.
Помню переезд, где дорога и железнодорожное полотно пересекались, будку, полосатый шлагбаум, старика-узбека с узкой, клинышком, бородкой Ходжи Насреддина и пестрым платком, наподобие чалмы обмотанным вокруг головы. На двухколесной, запряженной ишачком арбе лежали длинные, необычайно ароматные дыни. Старик посадил меня к себе и довез до какого-то полустанка. Там я спрыгнул на землю. Старик протянул мне увесистую дыню и указал на чайник, который я не выпускал из рук. Я понял, что он предлагал обмен, и отстранил дыню. Тогда старик проговорил что-то по-узбекски (он не знал ни одного русского слова) и отдал мне дыню просто так.
Читать дальше