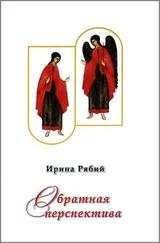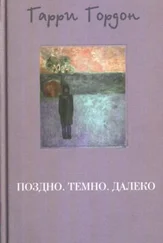— О темпора, о дура! — сказал Макаров.
— Как наши? — спросил Тихомиров. — Как Алёша Королёв?
— Болеет. Но, по слухам, опять стихи пишет.
— Бухает?
— А как же!
Зазвонил телефон.
— Снимите, кто-нибудь, трубку, — попросил Карл, сидящий далеко, у двери.
— Ты уж сам дотянись как-нибудь.
Карл дотянулся.
— Алё, алё, — заведомо недовольным голосом сказал Королёв. — Ну, и что у тебя?
— У меня… — Карл замялся, прикрыл трубку ладонью. — Это Алёша. Вы долго пробудете? Он успеет приехать?
— Нет, нет, — замотала головой Алла Евтихиевна. — Мы к нему сами придём. Отдельно.
— Алло! — откликнулся Карл. — У меня тут… температура.
— Понятно. Я вот чего звоню. Мне тут предложили авторский вечер. На конец марта. А я не могу: в больницу ложусь. Ты бы не согласился?
— Опять… Запасной игрок.
— Нет, что ты. Я когда тебя предложил, они обрадовались. Я даже заревновал. Да ты их прекрасно знаешь. Подружки твои, музей Маяковского.
— Отчего тогда сразу не позвали?
Алёша хмыкнул:
— Сам виноват. Недозвон. Ну ладно, выздоравливай. Не пей вина, Гертруда. А в музей всё-таки позвони.
Оживился Юрочка Виноградов: кто, как не он, будучи сотрудником музея, придумал и воплотил эти вечера поэзии.
— Как сейчас, — спросил Юрочка. — Ходят?
— Ходят, Юрочка, но всё больше барды и эти, как их… маньеристы.
— Это я их привёл, — гордо сказал Виноградов.
— Сань, — позвал Тихомирова Ян Гольцман. — Петь будем? Если будем, связки надо смочить. Наливай, Юрочка.
Ян Яныч стихи читал охотно и степенно, но целью и содержанием кухонных сборищ он считал пение. Пел он медленно, воздев глаза горе, гораздо медленнее, чем можно было представить, но не сердился, когда все подряд выпадали из его темпа — допевал один. Песен знал множество — от уличного романса пятидесятых годов, до народных — олонецких, волжских, поморских. Пел и украинские песни, только слова перевирал…
— Сперва почитаем, — решил Тихомиров. — А придёт Слуцкий — начнём сначала. Нам ведь не трудно.
Улыбчивый Саня внешне был похож на Блока, а внутренне был светел и раним.
— С тебя, Саня, и начнём, — сказал Ян Гольцман, самый старший по возрасту жизни.
Тихомиров улыбнулся:
Провинция, ночь… и бездомный
Фонарь светит криво, как блин,
На тусклые серые волны
Морозцем прихваченных глин.
Глядит городок незнакомо,
Верёвкой стучит о карниз…
У чёрного этого дома
Вся площадь вдруг съехала вниз.
Где ветер с реки оловянный,
Где звёздам дышать не дают —
Казённый, печной, деревянный,
Дверной и оконный приют.
Из сахара сложена печка,
И возится бабка с углём —
Её золотое сердечко
Сражается с красным огнём…
Проснулся я в праздник метели —
Взрывается снег у окна;
И, лёжа на белой постели,
Я вкусного выпил вина.
И спал ещё долго и сладко,
И снилось — поёт соловей.
И скачет вчерашняя бабка
На свадьбе у внучки своей.
— Саня, — попросил Карл, — а прочти про деву… Что-то про капрон.
— А, — сказал Тихомиров. — Про капрон, так про капрон… — И весело поглядел на Карла.
Был я юный, был я праздный,
Был снежок арбатский — грязный.
Был чудесный магазин
«Антикварные изделья»,
Что для светлого безделья
В дни трудов — незаменим:
Были рваные галоши,
Непонятные весной…
И нескладная, как лошадь,
Дева юная со мной.
То ль её тиранил отчим,
То ли пьяница-отец.
Или мачеха… А впрочем,
Так ли важно, наконец?
Ах, скамейка в парке. — Трон
Долгой юношеской муки…
Дева стиснула капрон,
Но мои мятежны руки!
Полуночные лобзанья
До вульгарного грубы…
Дома брань за опозданье,
Опухание губы.
И, хотя мы не любили,
Счастье было без прикрас.
Просто мы безгрешны были,
И любовь любила нас.
— Макаров! — вызвал Ян Яныч.
— Я не готов, уважаемый тов.
— Как знаешь. Ну, давай, Юрочка.
Виноградов оглядел каждого со значением, побарабанил пальцами по колену. Любитель пошутить, он не выносил и тени усмешки в свой адрес. Читал он громко, авторитетно:
Пока не гонимся за проком,
Пока прекрасен окоём,
Давайте думать о высоком
Предназначении своём.
Пока не съедена рублями
Опустошённая душа,
Письмо — любимой, строчку — маме
Доверь бумаге не спеша.
Пока ещё не вышло боком
За ложь, за песню с полным ртом,
Давайте думать о высоком,
О прочем — как-нибудь потом.
Читать дальше