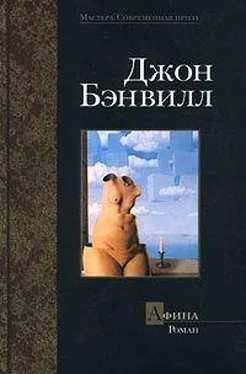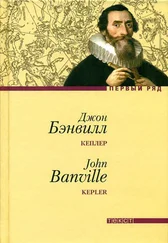Тут дверь открылась, и на площадку нетвёрдой царственной поступью вышла тётя Корки, под обе руки её поддерживали Шарон и миссис Хаддон. На ней была толстая меховая шуба в проплешинах и кокетливо сдвинутая набекрень шляпка с чёрной жёсткой вуалью (настоящей вуалью, её я не присочинил). В этой шубе она сильно и почему-то неприятно напоминала моего ободранного любимого мишку из далёкого детства. Она взглянула на отца Фаннинга, потом на меня. Губы у неё дрожали, словно она опасалась, что мы над ней смеёмся. Медленно, как похоронная процессия, мы спустились по лестнице, впереди дамы, за ними священник и позади всех я, мы с отцом Фаннингом — понурив головы и сцепив руки за спиной. В холле столпилось несколько рассеянно суетливых старушек, пожелавших проститься с тётей Корки. Я разглядел среди них мисс Лич в шёлку и шарфах, но на этот раз я как будто бы не показался ей знакомым. Старушки возбуждённо шептались, им, наверно, непривычно было видеть, как кто-то из их числа покидает это узилище, и не только в уме, но даже в вертикальном положении. На крыльце тётя задержалась и удивлённо и недоверчиво обвела взглядом газон, и деревья, и вид на море, словно подозревая, что всё это только нарисовано на холсте для её спокойствия. Таксист неожиданно проявил внимание, даже вылез из машины и помог мне устроить старушку на пассажирском сиденье; может быть, ему она тоже напомнила кого-то истрёпанного и дорогого из прошлой жизни. Она сняла шляпу с вуалью, прочла надпись «Не курить» на приборном щитке и принюхалась. Тут появился мистер Хаддон с тёткиным саквояжем, и водителю пришлось снова выйти, чтобы затолкать его в багажник. Мы тронулись под канонаду дребезга и выхлопов, и мистер Хаддон медленно отступил, точно выбил колодки и спустил на воду большой корабль. На крыльце вяло махали руками древние менады, а миссис Хаддон стояла в стороне, и вид у неё был обиженный и злой. Выбежала сестра Шарон, стала стучать в окно, говорить что-то, но тётя Корки не знала, как опустить стекло, а шофёру девушка была не видна, поэтому мы уехали, а она, растерянная, осталась стоять одна, кусая губы и улыбаясь, и позади над ней нависал большой, несуразный, весело раскрашенный дом. «Не оглядывайся!» — сердито приказала мне тётя дрожащим голосом и втянула голову в меховой воротник. Боже милосердный, — думал я, ломая руки. — Что я наделал!
Удивительно, как знакомое в один миг может стать незнакомым. Мой дом, как я его называл, с первого же взгляда на тётю Корки нахмурился, надулся и так до сих пор ещё и не пришёл в себя. Я чувствовал себя гулякой-мужем, вернувшимся после ночи на окрестных крышах под ручку со своей цыпочкой. Я живу на четвёртом этаже в узком старом обшарпанном доме на улице, вдоль которой растут в два ряда деревья и горланят неутомимые воробьи, на одном её конце стоит церковь, а на другом — светло-жёлтый таинственно немой монастырь. Квартира мне досталась по наследству от другой, настоящей, тётки, которая однажды летним воскресным вечером тихо скончалась здесь, сидя одиноко у раскрытого окна. Тебе, я надеюсь, небезынтересны эти подробности. В квартире две большие неуютные комнаты, одна окнами на улицу, а другая — на узкий, злокачественно заросший задний двор. Имеется кухонька в отгороженном углу и ванная комната на один лестничный марш вниз. Мне бы надо было тебя сюда привести, привести хотя бы один раз, чтобы ты всё посмотрела и оставила свои отпечатки пальцев. Другие жильцы… нет, ну их, других жильцов. На лестнице стоит замерший коричневый торшер, и повсюду сладко пахнет застоявшимся воздухом. Дом у нас тихий. Днём, несмотря на доносящиеся шумы уличного движения, можно, если прислушаешься, расслышать слабое, сухое стрекотание пишущих машинок в соседних учреждениях. Впрочем, теперь эти симпатичные машинки, всегда приводившие мне на ум автомобили на тележных колёсах и музыкальное сопровождение фильмов в кинотеатре, всё больше заменяются компьютерами, чьи клавиши постукивают, как зубы во вставных челюстях. Я люблю здесь, вернее любил (твой уход лишил все вещи вкуса и запаха) большой, никому не нужный буфет, чёрный, графитно лоснящийся круглый стол, обеденные стулья, застывшие насторожённо, как лесные звери, испуганные зеркала, ковры, до сих пор хранящие запах умерших кошек моей умершей тётки. Эти комнаты живут своей тайной жизнью. Кажется, будто в них всё время что-то происходит. Когда я вхожу в ту или другую неожиданно — а кому тут меня ожидать? — у меня всегда такое ощущение, как будто я прервал некую таинственную, нескончаемую деятельность; которая немедленно возобновится, как только я уйду. Ощущение такое, словно живёшь в больших, слегка развинченных напольных часах. Тётя Корки, когда мы наконец одолели третий лестничный марш — тем временем уже наступил вечер, — огляделась в последних отсветах дня и сказала: «Ах, Берлин!» И сразу же квартира, точно капризный ребёнок, повернулась спиной к ней и ко мне.
Читать дальше