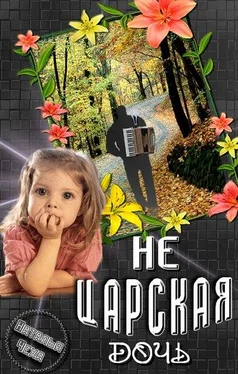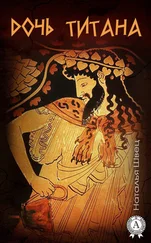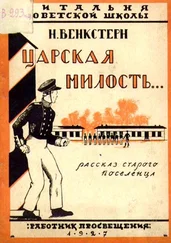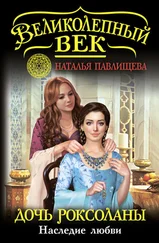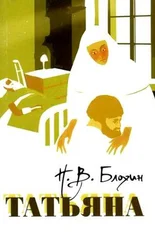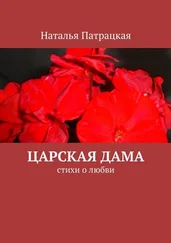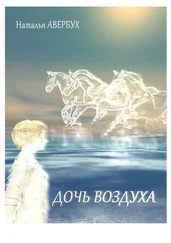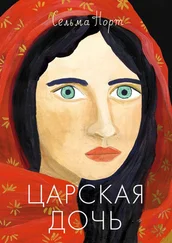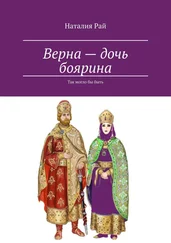— Почему?! — воскликнуло сразу несколько голосов.
— Потому, что она — дура, — невозмутимо ответил он и победоносно посмотрел на одноклассников, уточняя про себя произведенный им эффект.
Я стояла, будто пораженная громом. Кто-то осмелился критиковать меня? Кто-то осмелился НЕ ВЫБРАТЬ?
Я долго плакала в раздевалке, спрятавшись между висевшей на кронштейнах одеждой. Потом меня нашли подруги и долго утешали, доказывая, что я — самая лучшая и самая достойная из всех, а на слова этого недоумка не стоит обращать внимание. Я успокоилась, но рубец на сердце все-таки остался. Самым неприятным и тревожащим был тот факт, что оппонент так и не счел нужным объяснить, почему он назвал меня дурой? Ну, что я ему сделала? Разве что пожаловалась недавно учительнице, что он тайно курит на переменах за углом школы.
Я не понимала, как это можно быть отверженной кем-то просто так, без всяких видимых причин?! Лишь спустя годы я сообразила, что причины, конечно, были, но ведь это были — частично, по крайней мере! — причины Игоря, а не мои. А тогда я просто пережила первый серьезный опыт нелюбви, против которого еще не была вооружена.
Я искала ответы на мучавшие меня вопросы. Днями, а то и неделями сидела над дневниками. Бесцельное хождение по улицам вовсе не вдохновляло меня. Я философствовала. «Заурядный ум, в лучшем случае, напоминает собой простейший механизм, — старательно выписывала я из любимого Драйзера. — Он поглощает так мало, что его работа никак не отражается на беспредельном пространстве, каким является жизнь….» Мне хотелось, чтоб моя мыслительная деятельность произвела в этом пространстве хоть маленький, но взрыв.
Я читала Лондона, воображая себя не Руфью, как многие мои подруги, а Мартином Иденом. Мне хотелось писать стихи и прозу, так же отдавать их для напечатания в какие-то редакции и получать большие гонорары. Но мне не хватало слов. Стихи выходили глупыми, рассказы не получались. Я решила, что не имею призвания к литературному труду, несмотря на заверения в этом учительницы литературы Зои Ивановны, всегда читавшей мои сочинения перед классом, как самые лучшие.
А что я имела? Хотелось понять.
Нет, не те молодежь,-
писала я на следующем листе, -
Кто, забившись в лужайку да в лодку,
Начинает под визг и галдеж
Прополаскивать водкой глотку.
Разве это молодость? Нет!
Мало быть восемнадцати лет.
Молодые — это те,
Кто бойцовым рядам поределым
Скажет именем всех детей:
Мы земной шар переделаем!
«А хочется ли мне переделывать земной шар? — спрашивала себя я. — Что это за переделка такая?» Я вспоминала, как два года назад писала заявление на вступление в комсомол. «Хочу быть в первых рядах строителей коммунизма», — вывела я своим красивым почерком. (Именно такая фраза фигурировала в образце, приколотом на стену в кабинете старшей пионервожатой, сорокапятилетней Нины Николаевны, и именно так каждый из вступающих должен был мотивировать столь важный жизненный шаг). Эти слова, несмотря на некоторую отстраненность и безотносительность к моей личной жизни, в общем-то, мне нравились. Я всегда стремилась сесть в первом ряду — например, в кинотеатре, куда ходила с мамой, или в актовом зале на школьных собраниях. Мне казалось, что первенство было как бы наречено мне на роду. Еще отец говорил:
— Ты, доня, всегда будешь самая лучшая!
И в саду, помнится, меня хвалили: единственная из всей группы я могла заменить воспитательницу, если та куда-нибудь отлучалась.
— Сиди ровно! — командным голосом говорила я Сашке Хлюстову, который никак не хотел подчиняться.
Потом обращалась ко всем:
— Руки на коленях, пятки вместе, носки врозь!
И все сидели. Молча, поедая глазами строгую маленькую воспитательницу.
В школе — тоже всегда похвалы: лучшая ученица; лучше всех обернула тетрадь; лучше других написала сочинение; победы в спорте — тоже у меня; подруги и друзья — не какие-нибудь там обыкновенные, а — лучшие из лучших; выпускной экзамен сдала лучше всех — сразу, как говорится, видна карьера… Мне казалось это нормальным, само собой разумеющимся.
А жизнь моя теперь, после школы, тоже будет лучшей?
Что бы сказал по этому поводу отец?
Я всегда помнила его — с неизменной гитарой, конечно. Нервные пальцы легко передвигаются по грифу, воспроизводя так любимую мной «черную стрелку», которая «проходит циферблат». С Утесовым ведь прошло все мое детство! А кадры из старой комедии, повествующей о развеселой жизни музыкантов большого оркестра, надолго запечатлелись в памяти. Как мастерски они играли! Почти совсем, как папа. Это потом я узнала, что в исполнении первого советского биг-бэнда звучал джаз, а то, что они делали с одной и той же мелодией, называется импровизацией. А в детстве я просто радовалась, когда слышала, к примеру, песенку про утюг…
Читать дальше