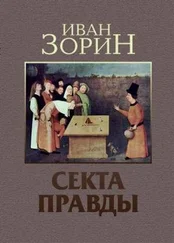— Я так обаятельна, — взмолилась Шахерезада, — а разве не красота спасёт мир?
Она привстала на цыпочки, и её грудь полезла из платья.
— А ты не жалоби, — мрачно выдохнула смерть, — через наше ведомство, знаешь, сколько прошло? Один, помню, цикуту пил, не морщась, пока не увидел, как от его крови замертво падают комары! А уж неприметной рыбки было пруд пруди…
И Шахерезада поняла, что поблажки не будет.
— Да ты не бойся, — успокаивала смерть, — геенна вроде твоего ресторана: также горит огонь и раздаётся скрежет зубовный.
Она смотрела в окно, где текло время, заведённое при Сотворении, как будильник.
— Я могу показать тысячу и одну Москву, — выстрелила наугад Шахерезада и попала в яблочко.
— Люди, как комары, — крови с напёрсток, а писку… — Смерть зевнула: — Впрочем, давай, показывай…
И они скользнули во тьму, путаясь в лабиринте кривых переулков.
— Вот за этим забором, — показала Шахерезада на кирпичную кладку, — жил писатель, дом которого вместил всю Москву.
И поведала историю
ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДА
— Писатель как писатель, как говорится, не испортит только то, к чему не прикоснётся, не из тех, чьи книги кладут с собой в гроб. У этого писателя был друг — из тех, кто, оказавшись на небе, не заметит райских кущ. У него всё валилось из рук, бутерброд падал маслом вниз, а время, как вода, утекало меж пальцев. «Выручай, брат», — ныл он до тех пор, пока не вяли уши, и тогда его хотелось прихлопнуть первой попавшейся дверью. Терять ему было нечего, он был гол как сокол, считая, что у всех денег куры не клюют, а у него — кот наплакал, и, когда писатель предложил ему переселиться в свой роман, согласился. «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца», — сказал он, ныряя в сюжетный омут. Первое время он ещё терялся, а потом пообвык и стал требовать по утрам подогревать воду в бассейне, а на ужин готовить черепаховый суп. Он зажил припеваючи, но по привычке жаловался: «Я тут как кладбищенский сторож среди мертвецов».
Очень скоро по Москве поползли слухи, что писатель устраивает судьбы, и к его дому стали выстраиваться очереди, пока он не переселил в свой роман всю Москву.
Поначалу места в нём хватало всем, как в раю до изгнания. Москва обезлюдела так, что приди враги, они бы заняли её без боя. Но враги не пришли, опасаясь попасть в плен к чужеземному романисту. Для этого у них были соотечественники, строчащие пером, как швея иглой. Роман пух на глазах, грозя лопнуть, как мыльный пузырь. Заселив его, как адресную книгу, персонажи привычно толкались в троллейбусах, толпились на площадях, теснились в постелях. Они тащили в утопию свою мышиную возню, клопиные матрацы, ядовитыми сплетнями превращая её в серпентарий…
«Эти — всё испоганят!» — зачерпнув ботинком воды, чертыхнулся Роман.
И постепенно виртуальная жизнь прискучила москвичам не меньше их прошлых реалий. Многие стали проситься назад, и, возвращаясь в свои квартиры, опять заселили Москву…
— А от писателя, — закончила Шахерезада, — дневником осталась строчка: «Иногда мир кажется космосом, но чаще — хаосом».
— Откуда ему знать? — возразила смерть. — Я переселила в иной мир тысячу и одну Москву — разве это не доказательство мирового порядка?
Но тут в окнах запели будильники, утро погасило светляков, и Шахерезада умолкла.
Так она выдумывала историю за историей, продлевая себе жизнь, пророчествовала и лгала, ибо ложь — всего лишь несбывшееся пророчество. Однажды она рассказала и про нас, супругов, поперхнувшихся счастьем и откашливающихся годами ненависти, про то, как я, идя по Арбату, рассказываю «Историю великого переселения». Дойдя в повествовании до этого момента, она поняла, что затянула в узелок ещё одну петлю на времени, которую придётся распутывать мне.
Шахерезада проживала множество жизней, нарисованных воображением, каждую ночь отправляясь в плавание по рукаву одного из бесчисленных, созданных ею времён. И чем дольше она рассказывала, тем серее казалась ей действительность, проступающая днём. Кончилось тем, что её охватило безразличие, и она смолкла, чувствуя себя опустошённой. Тут-то её и подкараулила смерть, порядком утомленная её россказнями…
Тогда — на Арбате — они находили общий язык, понимая друг друга без слов, а теперь — и молчали с переводчиком. Различая степени одиночества, Кондратов с годами сделался мизантропом. Он ругал Птичкина, но сам писал всё хуже, ведь сердце, как почтовый ящик, — пустеет, когда некому писать…
Читать дальше