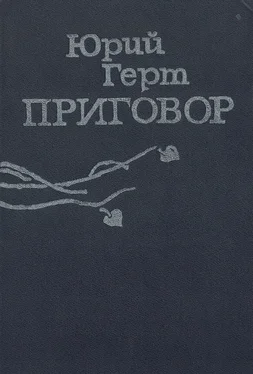— Вот видите,— ликовал Вершинин, потрясая над головой узловатым подагрическим пальцем,— я утверждал с самого начала: все в этом деле шито белыми нитками!..
— Нет, а Савушкин, Савушкин-то, а?.. Каков?..
— А ведь казался таким рохлей!,.
— Совесть загрызла...
— И есть с чего!..
Я так счастлива за вас, Алексей Макарович!..— Лукавое личико Ольги Градовой светилось на этот раз такой неподдельной радостью, что Федоров устыдился своего всегдашнего недоверия к ней.
— Ах, нет, нет!..— говорила Татьяна, боясь поддаться и все же поддаваясь общему воодушевлению.— Все еще впереди!.. Мало ли...— И в ответ на шумные восклицания громко стучала, смеясь, костяшками пальцев по спинке кресла.
Всей толпой они выбрались, наконец, на улицу. Разогретый предвечерним солнцем асфальт пружинил, как микропористая резина. Сизая гарь из выхлопных труб, не рассеиваясь, стелилась над дорогой. После пережитого за этот день, как путникам, одолевшим вместе опасный участок маршрута, никому не хотелось расставаться. В Федорове вспыхнула молодая, бесшабашная, ищущая выхода энергия — он объявил, что никого не отпустит, что все сейчас же, немедленно едут к ним домой. Втиснулись в машину Николаева, в остановленное тут же такси, в кургузенький «Запорожец» какого-то частника — и вся кавалькада понеслась через город, без явной цели, только бы сбросить напряжение, разрядить наэлектризованные нервы. В затихшей, запустелой квартире вдруг взбурлил, захлестнул комнаты говорливый вал. Отыскалась бутылка вина, застрявшая с чьих-то именин, зато кофе, растворимого и в зернах, было сколько угодно. И пока жужжала на кухне кофемолка, пока Николаев по особой, вывезенной из Кувейта методе (он там проработал хирургом в госпитале два года) варил густой, ароматный напиток, пока Конкин и Пушкарев спорили в кабинете у Федорова о школьном самоуправлении, пока Харитонова, роняя крупные слезы, исповеднически рассказывала о своей жизни Людмиле Георгиевне, а жена Николаева, тихая, бессловесная, помогала Татьяне накрыть на стол, Федорову казалось, что и в самом деле он возвратился из какого-то дальнего путешествия в дом, где все осталось по-прежнему: стеллажи, набитые любимыми книгами, гул дружеских споров, молодой азарт...
1
Часам к десяти все уже разошлись, они остались вдвоем. Пока Татьяна заканчивала приборку на кухне, он помогал ей — мыл посуду, вытирал чашки, потом вернулся; к себе, сел, закурил перед распахнутым окном. Сюда, на восьмой этаж, почти не доносился снизу густой, приторный запах акации, но под яркой луной, если приглядеться, виден был серебристый, клубящийся вдоль улицы туман, в который сливались ее пышные гроздья.
А луна — огромная, грандиозная просто, как в старом оперном спектакле,— висела в небе, и если сейчас, знал Федорову посмотреть на нее в простенькую туристскую трубу, такая была у Виктора, купленная когда-то в Москве, возле Столешникова,— если присмотреться, на самом ободке можно различить, как на мелкой пилочке, острые зубцы, зазубринки — горы, лунные пики, вулканы... Ну и ну,— вздохнул Федоров, перекладывая с колена на колено и вытягивая гудящие, словно после долгого перехода, ноги, — только подумать: такая вот нога ступала по Луне; цеплялась за какие-нибудь кочки, бугорки, взметала лунную пыль... Сказка, фантастика! Особенно если учесть, что творилось в ту минуту на славной нашей Земле — здесь щелкали наручники, там маршировали солдаты, где-то испытывали ядерное оружие новейших образцов... Но ей-то что было до этого?.. И она себе плыла, сияла, лучилась отраженным светом, как во времена Сократа... Или неандертальцев, которые жгли костер у входа в пещеру, поджаривали на огне своих сородичей или врагов, а кости бросали смиренно поджидавшим поживы собакам, вчерашним волкам...
2
— Сядь, отдохни, старушка,— сказал он, когда в комнату вошла Татьяна, устало шаркая домашними туфлями, Никогда не называл он ее «старушкой», а тут вырвалось, не в том, впрочем, смысле, что годы подошли,— попросту пережитое вместе давало право на дружеское сочувствие, на общие воспоминания, на воскрешаемые в памяти с полуслова радости и беды пройденного рука об руку пути. Пожалуй, она так и поняла его, только пушистые брови от неожиданности дрогнули, выгнулись вверх — и тут же опустились, выпрямились. Она села в кресло-качалку, тоже вытянув раздавшиеся в икрах, но все еще красивые ноги. Села, прикрыла глаза и забросила руки за голову, утопила в пышной волне волос.
Читать дальше