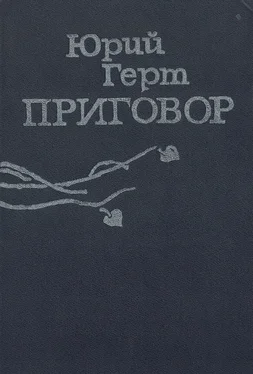Но при этом его мысль летела куда-то дальше, вверх, все расширяющейся спиралью, и вместо трех жалких фигурок в таком вот зале, не в зальчике, а в просторном, для многих доступном судебном зале, виделись ему совсем другие люди: респектабельные, с начальственно звучащими баритонами, с мешочками под глазами, которые не разгладят никакие сауны, с повелительным, как бы поверх голов бросаемым взглядом. И среди них — директор комбината и все те, кто морил город, жег его легкие, отравлял кровь... Но перед судьями стоял, мялся, бубнил свои невнятные ответы Глеб, и прокурор Кравцова один за другим задавала ему вопросы, надеясь найти зацепку, камешек, а то и гладенький кирпич, который без труда ляжет в тщательно возводимую ею стену доказательств.
— Скажите, Николаев, а родители... Они знали об этих ваших художествах?.. Как вы пили, разгуливали: по вечерам вместо того, чтобы сидеть дома и учить уроки?.. И как они к этому относились?..
— Ну, как... Наказывали, если узнают...
— А за... — Кравцова поправила очки, подвинула их ближе к переносью.— За что именно вас наказывали?
— За разное... Отметку плохую охватишь или домой запоздаешь...
— А за карты? За то, что домой придете, а от вас вином пахнет?
— И за это.
— Я-а-асно. («Ясно-ясно-ясно...»—вспомнил Федоров скороговорку Чижова). И тем не менее... Вас что, товарищи подбивали?
— Никто меня не подбивал.
— Тогда как же?.. В тот вечер, третьего марта... Вы ведь знали, что вам достанется — и за вино, и за поздний приход?
— А бати не было, он в больнице дежурил.
— Значит, в то время, когда вы в сквере сидели и портвейн ( Кравцова перевернул а листочек, в блокноте, как будто проверяя себя)... портвейн попивали... В это время ваш отец... Что делал он в это время на дежурстве?
— Откуда мне знать.
— Ну, если он хирург, то... Как вы полагаете?..— Глеб молчал.— Скажите, Николаев, вы у отца в больнице бывали? Знаете, чем он там занимается?
— Был раза два. А чем занимается, и так известно: больных режет... Что тут смотреть.
— А зачем вы к нему в больницу заходили?
— Не помню. Наверное, тугриков перехватить.
— Тугриков?..
Смутный гул, как горький дымок, повис над залом.
— Заявляю протест,— подал голос Горский.— Вопросы прокурора не относятся к существу дела.
— Протест отклоняется,— сказал Курдаков.— Продолжайте.
— Выходит, по вашим, Николаев, словам, что каждый шаг ваш дома контролировали, на то и другое налагали строгие запреты, однако вы их нарушали?
— Как все, так и я...
— И чем строже были запреты, тем чаще вы их нарушали?
Глеб помолчал, прежде чем ответить:
— Пожалуй, что так.
— «Пожалуй, что та-ак...»— протянула Кравцова. И обратилась к председательствующему:— Пока у меня все.
— Вы что же,— заговорил Горский,— так-таки и были лишены отцом всякой самостоятельности? Он что — стремился, чтобы дом стал для вас чем-то вроде клетки?..
Горский был разгорячен, рассержен. Сонное, выражение смыло с его лица. Широкие ноздри раздувались, он то встряхивал львиной гривой, то картинным жестом отбрасывал ее с высокого, скульптурно вылепленного лба.
Глеб сник и, взглянув на него, виновато поёжился.
И тут раздался негромкий, даже робковатый, голос Катушкиной:
— А давно ли отец начал вас брать на охоту?
— Давно,— поднял голову Глеб и глаза у него прояснились, посветлели.— Лет с двенадцати, а то и с десяти.
— А вам никогда не было жалко тех... Не знаю — зверушек, птичек... На которых вы охотились?.. Которых убивали?..
— Нет,—сказал Глеб, отчего-то повеселев,—такого не было. А то бы что за охота?..
Глаза его на мгновение прищурились и странно блеснули, он словно мушку навел, торопясь не упустить цель и надавить на покорный пальцу крючок. Или Федорову так только показалось?.. Но и потом, когда Глеб уже сел и его место занял Харитонов, взгляд этот, холодный и безжалостный, как стальное лезвие, продолжал в нем жить.
19
...Он вилял, ёрничал, паясничал — Валерка Харитонов, ничуть не смущаясь тем, что перед ним — суд, что позади, в шаге от него, — конвоир, а сбоку, шагах в четырех,— зареванная, с разбухшим от слез лицом, утратившим всю свою моложавость и миловидность,— мать, поминутно подносящая к заплаканным глазам платок.
— Вы, Харитонов, первый дали следствию показания, от которых теперь отказываетесь...
— А я испугался.— Он говорил и улыбался при этом от уха до уха, улыбался и пританцовывал па своих длинных журавлиных ногах, будто упирался пятками в горячие угли.— Я вообще-то из пужливых, спросите хоть кого. А тут говорят: «Признавайся». Ну, я и признался...
Читать дальше