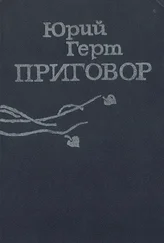Как хорошо лечь в снег. Лечь в белый-белый, мягкий снег, расслабить все тело, закрыть глаза, и чтоб тихо-тихо, совсем тихо, и только снег, чистый, теплый, бездумный...
Прошлым летом я поехал от газеты делать очерк о межколхозной электростанции, а на обратном пути завернул в тот городок, где жила Маша. Я шел по тихим вечерним улочкам райцентра с густыми палисадничками, беззлобным собачьим лаем, женщины лузгали семечки, переговаривались через дорогу. Я шел, пока не отыскал ее дом, и что-то ненастоящее, что-то лубочное заключалось в том, какой я ее увидел: она стояла у окна, касаясь щекой раздвинутой занавески, безмятежно-задумчивая, окутанная сумерками, как туманом. И дом ее был похож на терем, и в нем, считая дни, считая недели, она ждала, пока явится перед окном сказочный витязь, вскинет ее на седло и унесет в тридесятое царство.
Мы сидели во дворике, пахло цветами табака, с неба срывались звезды, и Маша загадывала — на счастье, а что — не говорила, только смеялась — шаловливым, дразнящим смехом; потом пили чай в маленькой гостиной под оранжевым абажуром с длинной бахромой; Машина мать все подкладывала мне в розетку брусничное варенье с яблоками и рассказывала о том, как начинала когда-то работать в школе; мне показывали семейный альбом, фотографии отца Маши — он тоже был учителем, хорошо подобранную библиотеку в большом книжном шкафу — книги собирались любовно, многие годы: брокгаузовские Шиллер, Байрон, Шекспир, зачитанные томики Тургенева. Я потянулся к одному из них — на пол выпорхнули несколько исписанных листков; Маша подхватила их и, охапкой прижав к груди, метнулась в свою комнатку. Машина мать улыбнулась с ласковым лукавством взрослого, принимающего участие в детской игре. Я их узнал, это были мои письма.
Мне постелили тут же, в гостиной, на широченной тахте, простыни были белые, прохладные и белые, даже в темноте я видел, какие они белые.
Машина комната находилась напротив, между дверью и полом долго не гасла яркая узкая полоска, всего лишь эта полоска разделяла нас, я смотрел на нее и не мог уснуть, но и после того, как она потухла, я все ворочался на своих жестких, белых простынях, прислушиваясь, томясь и ожидая — сам не зная, чего. Что-то слишком призрачное заключалось в этом тихом светлом уюте, в ясном, незамутненном течении жизни, которой я едва коснулся,— но мне казалось невозможным, чтобы эта ночь прошла, исчезла, как тысячи других ночей. Когда во второй раз прокричали петухи, я поднялся, зажег лампу и стал писать свой очерк.
Утром я прочитал его Маше. Сонная речушка, плот с лениво ухающим копром, два десятка обгоревших под солнцем женщин и мужиков, клявших начальство за то, что их оторвали от сенокоса — все это под моим пером обратилось в лиро-патетическую поэму о колхозном Днепрогэсе.
Маша слушала меня с восторгом.
Я уехал в тот же день и по пути на станцию, трясясь в кузове грузовика, порвал и выбросил за борт свой очерк.
...На носках моих ботинок успели нарасти пушистые холмики.
Ей нужен витязь, подумал я, сказочный витязь на бьющем копытами коне...
Бесшумно ступая подшитыми валенками, подошел сторож.
— Сидишь?— сказал он подозрительно, выглянув из лохматого воротника.— Нечего тут сидеть... Зимой пароходы не ходют...
Я не стал спорить. Зимой пароходы не ходят... Я поднялся на берег и побрел занесенной снегом улицей, не все ли равно — куда?
Нет, не все равно. Это так говорится: все равно. Я обрадовался, когда увидел вывеску какой-то пивнушки. Я замерз, мне хотелось есть. Ну и скотина же ты, сказал я себе, что бы там ни происходило, главным остаются жратва и тепло.
Буфетчица, немолодая женщина с отечным лицом, вязала; спицы тускло поблескивали в ее руках. Толстый рыжий кот дремал, .распластавшись на подоконнике.
Двое за столиком чистили мелкую воблешку, с трудом отдирая сухую кожицу и прихлебывая из кружек.
Я медленно цедил пиво, пахнущее бочкой и сырым погребом. А почему бы тебе и не быть скотиной, подумал я. Ведь ты дышишь через тростинку. Нет, подумал я, толь ко человек и может дышать через тростинку. Скотина всегда дышит полной грудью. Хотя есть еще явление анабиоза. Это когда лягушки, улитки или мухи засыпают и становятся как бы мертвыми... Вот какой я умный, подумал я. Анабиоз, симбиоз — все я знаю. А они этого не знают.
— Пиво с воблой — вот что я уважаю,— сказал один из сидевших за столиком.
— А по мне — раки, — отозвался другой,— К пиву раки — что ты! Высший сорт!
— Раки — это я тоже уважаю,— сказал первый.
Читать дальше