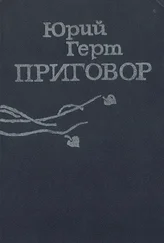— А выход? Выход он нашел?
— А это уж неважно,— сказал я.— Главное, он сразил Минотавра. Впрочем, он выбрался из лабиринта... Но это еще одна длинная история. Про Ариадну.
— Это кто — Ариадна?
— Девчонка такая была,— сказал я.— Была такая девчонка с золотыми волосами. Она дала ему свой волосок, и он шел, а волосок разматывался по дороге за ним, и по этому волоску он потом добрался до выхода.
— Ну и греки,— вздохнул Полковник, помолчав.—
Навыдумывали, дьяволы, сказок на мою голову. Разве их упомнишь?.. А скоро зачеты...
— Да,— сказал я.— Всех не упомнишь. Я тоже что-то напутал, кажется... Про волосок Ариадны... Давай спать.
И мы заснули. Только странное у меня было чувство, перед тем как заснуть. Мне до того ясно представился этот тонкий золотистый волосок, что я осторожно пошевелил пальцами. Осторожно, чтобы не порвать, если он у меня в руке. Он ведь тонкий, он, может быть, и правда в руке, а я — не вижу. Всего-то ведь навсего — волосок...
* * *
Что он Гекубе, что ему Гекуба?..
Уж это, кажется, усвоил я хорошо. Крепко усвоил. Это мне помогли усвоить. Это мне объяснили один раз и на нею жизнь, насчет Гекубы и всего прочего, и не Гамлет, и не Сашка Коломийцев, а, как ни странно, сам капитан Шутов, первый мой настоящий учитель.
Он, правда, не облекал свою мысль в столь изощренную форму, но это и простительно: капитан все-таки был не Вильямом Шекспиром, а следователем органов госбезопасности. Я сидел у него в кабинете,—эдакий восторженный, отчаянный философ из десятого класса, предводитель кружка яростных борцов против мирового мещанства, и он, полистывая наш рукописный журнальчик «Прочь с дороги!» смотрел на меня сырыми, осенними глазами, кашлял, харкая в баночку с нарезной крышкой и утомленно, сочувственно внушал мне, что великие проблемы человечества — не наше дело, мы можем плохо кончить.
Семнадцать лет — отличный возраст для такого урока, с тех пор у меня хватило времени, чтобы над ним поразмыслить, над ним и кое над чем еще, и вдруг обнаружить спасительную формулу про Гекубу.
Самому капитану она, впрочем, показалась бы несколько циничной, даже не без налетца фрондерства, но ведь это лишь сверху, а в глубине та же мысль, с которой тогда, в его кабинете, мешали мне согласиться мои семнадцать лет и отсутствие жизненного опыта.
Но теперь эта мысль уже рисуется мне не грубо, не вульгарно, — тут уже известная эстетика, утонченность, тут в самих звуках мерещится и взгляд приглушенный, сквозь облачко дыма, и усмешечка в полгубы: «Что он Гекубе, что ему Гекуба?» — и через коротенькую паузу: «Как говаривал принц Датский»... И ведь, в сущности, ничего не сказано — и все сказано, и ничего нет — и все есть, зато как! Но я признаюсь: у Олега это получилось бы лучше. Олег — это высший класс, экстра, сноб из Охотного ряда. У него это получилось бы здорово, а я — что я?..
Утром я едва отрываю голову от подушки.
— Где это ты вчера набрался?— неодобрительно спрашивает Рогачев.
Ребята уже вернулись с физзарядки. У них морозные, румяные лица праведников. С завистью заматерелого грешника я смотрю, как блаженно вкушают они хлеб с маргарином, прихлебывая кипяток из кружек, и между делом листают конспекты. Им хорошо. У них не ломит затылок, не вяжет во рту, им не приходится по частям собирать свое тело, которое распалось на куски, требующие покоя и неподвижности. К тому же мне вспоминается вчерашнее. Меня гложет ощущение какой-то смутной вины — перед Машенькой, перед ребятами и всем человечеством в целом.
Я натягиваю штаны на деревянные ноги, беру полотенце и плетусь в умывальник. Холодная вода вселяет в меня надежду. Мне хочется искупить свои грехи примерным отношением к науке и долгу перед обществом. Я только неясно представляю, как это сделать. Но в и институт я мчусь бегом, чтобы не опоздать на первую лекцию.
На лестнице я сталкиваюсь с Машенькой. Сделав неприступное лицо, она обгоняет меня, едва тряхнув пушистой гривкой — это может сойти и за кивок и просто за нечаянное движение. Правда, на площадке ее шаги как бы в ожидании замедляются, но я тоже сбавляю скорость,
и она даже не взлетает, а взвивается вверх, рассыпая по лестничным маршам ожесточенную, непримиримую дробь каблучков.
Мы — последние. Со вторым звонком, гася шум, в аудиторию своей быстрой, размашистой походкой входит Сосновский. И вслед за ним врывается в дверь и пробегает по рядам какой-то бодрящий сквознячок. Его приветствуют весело, дружно, громко, словно каждый хочет, чтобы он расслышал его голос.
Читать дальше