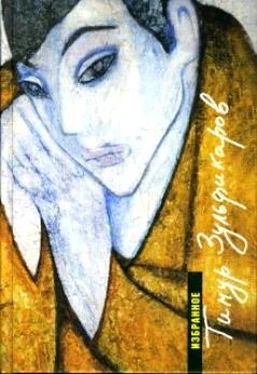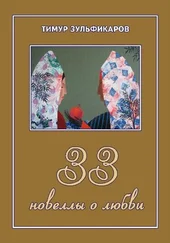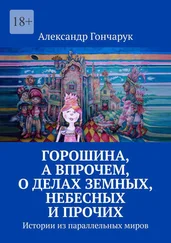И скоро, скоро убьют, вынут все леса, и негде будет бродить Богородице с омофором Ея…
Да!..
Ах, братья мои, ретивые лесогубители прыткие!..
Когда побьете, порубите все леса и продадите их на Запад, то опять в гражданской, голодной резне-войне, на лысых неоглядных вырубках будете опять рубить друг друга? Да?..
А мне всегда в ночи спиленные деревья — особенно там, где прошла пила и белый смертельный срез, круг оставила, — эти светящиеся круги в ночи кажутся бледными, немыми, русскими, человечьими лицами, в смертном ужасе застывшими…
И зачем эти лица-кругляки мы продаем?..
Чтобы не видеть и не стыдиться?..
Чтобы вслед за ними не убиться?..
О, если бы деревья умели кричать — над Россией стоял бы непереносимый, древесный, миллионный вопль-крик-стон!..
Да!..
Но!
О Боже!..
Но и эта святая, полевая, избяная, деревенская, колодезная, дикая, журавлиная разруха деревень, и городков, и селений — такая мне родная! слезная! сладкая! живая!..
Как больная, надышавшаяся смертного дыма матерь… мама…
А сытые, розовые домики американские и европейские мне кажутся сонными, мертвыми, усопшими, чужими, “теплохладными”, как в Апокалипсисе…
Но одиноко слезно полноводно мне во поле одиноком… но есть хочется…
И вот тут я увидел большое, матово серебристое озеро и избы вокруг него…
И такой пустынной, целебной, дочеловечьей красотой веяло от него, что остановил я машину и пошел к озеру…
Я был с детстве рыбаком, и всегда у меня в багажнике машины лежал спиннинг, и часто вспоминал я ту корзину-ловушку, полную форелей, в том далеком фан-ягнобском водопаде…
Наверняка, в этом озере есть рыба: щука, лещ, а может быть, забредает в жемчужные чистые воды и судак…
Я подумал, что хорошо бы пожить в этой деревне, половить рыбу, успокоиться, уйти в тишь, в травы, в забвенье, в осенние тучи, в дожди-моросеи, что сыплются с низких небес…
Тишина окрест поразила меня…
Даже рыба не плескалась…
Кажется мне, что тысячелетняя Святая Русь устала жить на земле и уходит Она в небеса, в Царствие Небесное, куда зовет Её Хозяин Её — Спас!
Даже рыба на Руси устала жить и не плеснет в сонной воде…
А на земле уже нет для Руси земных Дорог… что ли?
Да?..
От этой осенней тишины, которая была глубже, чем смирная тишина кладбища, мне захотелось закричать: “Айда! Гойда! Ааааа! Русь, где ты?..”
И тут я радостно услышал козье блеянье жалобное, кудрявое…
Я побежал на крик и увидел у избы белую херувимскую козу. Коза чистая была, ухоженная, опрятная, как будто неземная, райская, как будто упала в траву с небес…
Она стояла у избы и глядела в открытое окно, а в окне томилась, маялась старуха в черном платье и черной косынке.
Старуха зорко меня издали увидела и улыбалась мне радостно и виновато:
— Ах, сынок, как ты вовремя-то пришел…
Изба-то моя подплыла подземными, озерными, мышиными водами…
И три дня назад крылечко прогнило и упало…
Теперь я, милок, в избе своей пленницей стала — выйти не могу без крыльца-то. И из окна выпрыгнуть не могу — ноги за девяносто лет отсырели, не слушаются, как в молодости прыткой. Родная изба стала мне тюрьма и могила живая…
Видишь — я уже в гробное, смертное белье заживо обрядилась…
А в деревне нашей все померли — я последняя…
Как Перестройка началась — так народец наш деревенский, сметливый мигом стал на погост переселяться, переезжать.
На селе Перестройка хорошо удалась — всех подчистую подмела…
Это в городах много еще народу побитого осталось, но и там скоро, скоро тишина будет, как у нас…
Кладбища нынче свежие не стоят, а бегут вширь и вдаль…
Раньше кладбища были, как пруды стоячие, а теперь они, как реки бегучие, щедрые…
А мне только козочку-кормилицу мою жаль… Видишь, как она плачет, заливается без меня… Одна душа живая козья осталась у меня в подругах…
…Я попросил у старухи — а её звали Марфа Тимофеевна Никитина — топор и гвозди и быстро поправил крыльцо — таким работам по поддержанию своего дома я за много лет научился умело — и выпустил пленницу из заточенья её избяного, невольного…
И целую неделю я прожил у этой старой русской чужой женщины — а есть ли на земле чужие люди? — в её блаженной избе с иконой Богородицы Троеручицы в красном углу…
Днем я бродил вдоль озера и рыбу ловил, а вечером топил печь-притопок, и мы с Марфой Тимофеевной варили уху и сонно, сладко беседовали втроем — белоснежная коза Маня тоже принимала немое, но всепонимающее участие в наших беседах, сверкая при огне печном прозрачными янтарями глаз…
Читать дальше