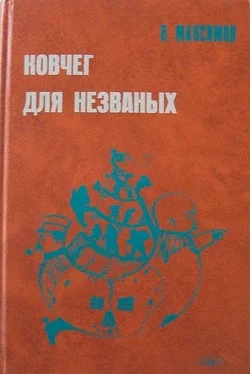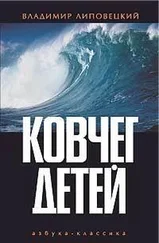Матвей умолк, и Золотарева охватила еще неведомая ему дотоле тоска, вернее, тягостное, со спазмами, жжение в сердце. Только сейчас, здесь, на краю света он с горечью осознал: то, что оставалось у него позади — райком, служба в органах, фронт, Кира, Сталин наконец, — было дорогой к этой вот нищей землянке, где его настиг призрак тяжкого груза давней молодости.
В эти считанные минуты в нем прочно и навсегда отныне укоренилось, что нет вин в жизни человека, за какие бы в конце концов не воздалась расплата. И в том, что она — эта расплата — должна была настичь в пределах, где завершалась его земля и начиналось чужое небо, таился для него какой-то особый, еще непостижимый ему смысл. «Твоя очередь, Илья Никанорыч, — подвел он черту, — на выход с вещами!»
— Ну, прости, что обеспокоил, Матвей, — молвил Золотарев, поднимаясь, — как говорится, пришел я выпить за здоровье, а пить пришлось за упокой.
— Бог простит, — снова безо всякого выражения ответил тот и отвернулся, будто отсекая себя и от него, и от всего того, что стояло за ним.
Его было соблазнила мысль рассказать на прощанье Матвею о своей встрече с Иваном на Байкале, помочь брательникам встретиться или, на худой конец, списаться, но сойдясь в упор с недвижным взглядом хозяина, понял, что тот заранее отказывался долее слушать гостя. «Как знаешь, — выходя, замкнулся Золотарев, — вольному воля!»
Из оседавшего тумана навстречу Золотареву сразу же выявился кадровик, словно и не уходил никуда вовсе, а может быть, так оно было и на самом деле:
— Гляжу, побеседовали! — Понимающе подмигнув ему, горбун заторопился в обратный путь. — Говорил вам, что фрукт, хоть сейчас к стенке. Вот они кадры мои, рвач на воре, контриком погоняет. Войдите в мое положение, товарищ Золотарев, не работа, а каторга. Фронтовики позарез нужны, с теми мы быстро наведем порядок…
Выпроставшись из утренней ваты, сопка гляделась теперь целиком. В черном шлейфе над ее плоско срезанной вершиной уже поплясывали алые язычки. Держался ровный, с редким подрагиванием гул. Винтовой подъем по узким террасам горы медленно уводил их всё дальше от береговой низины, пока снова не вывел к коробке местного управления, где кадровик, поджидая отставшего Золотарева, остановился у двери с табличкой «Медчасть».
— Здесь остановитесь, — проговорил тот, встретив Золотарева и почему-то опять понимающе подмигнув ему. — Тут у нас комнатка для особых гостей оборудована, как говорится, со всеми удобствами.
В женщине, которая их встретила, не было, на первый взгляд, ничего особенного, так себе, лет тридцати с лишним полнеющая женщина в форменном белом халате, и лишь взглянув на нее повнимательнее, можно было безошибочно отметить в ней необычность повадки и взгляда, в которых явственно сквозила властная уверенность в себе, с примесью, однако, глубоко затаенной, но терпкой горечи.
— Проходите, я уже всё приготовила. — В ее манере говорить тоже сказывалась необычность характера: она вела себя с ним так, будто они были давно и близко знакомы. — Сразу будете отдыхать или сначала поужинаете?
— Нет, нет, — бежал он от ее спокойно пристальных глаз, — спать, сразу спать, устал, как черт.
— Да, да, — вмешался было кадровик, заюлив, заерзав беспокойными глазами, — товарищу Золотареву необходимо хорошенько отдохнуть, завтра у нас предстоит большая работа.
Но та даже бровью не повела в сторону горбуна, будто его и не существовало вовсе, обратилась опять к Золотареву:
— Тогда проходите в свою комнату, там уже постелено. Если что понадобится, не стесняйтесь, зовите, я всегда тут.
С этим ее «если что понадобится» в смутном сердце Золотарев и двинулся к себе, к своему очередному походному пристанищу. Только оставшись один, наедине с собой, он по-настоящему почувствовал, какая вязкая тяжесть налила его за эти вроде бы недолгие часы. Едва Золотарев лег, как сонная одурь навалилась на него, и поэтому полуодетую женщину, которая вскоре вошла и спокойно, словно к себе, легла рядом с ним, он уже принял за наваждение.
В этом наваждении, полусне-полуяви и прошла ночь, среди которой, вперемежку с судорожными истязаниями, будто сказка без конца, перед ним прошла чужая жизнь такой боли и напряжения, что, думалось, была не под силу одному человеку. И, пожалуй, впервые в жизни в него вошла сладкая отрава жалости: к ней, к себе, ко всем, кто ушел и еще придет, ко всему сущему на этой скорбной земле. Растекаясь в этой жалости, он глухо забылся только к самому утру с единственным и новым для себя именем на губах:
Читать дальше