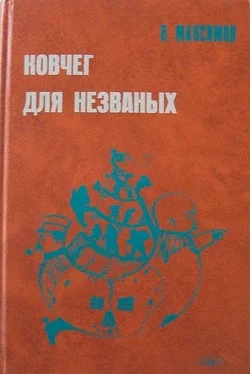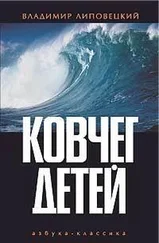— Здесь вот, рядом обитает, грехи замаливает, а может, фальшивые деньги печатает или антисоветчину, чёрт его знает! В общем, не кадровый подарочек. Вот, видите, труба над землянкой, там и есть, а я покуда к здешним японцам схожу, беспокойный народ, всё переселения требуют, успокоить надо, скоро переселим, на кой они нам хрен, одна морока, не знаем, как отделаться. — И так же потихоньку хохотнул на прощанье, исчезая в тающем тумане. — Счастливо договориться!
Колотье в горле Золотарева сделалось нестерпимым: сейчас, вот-вот, через минуту, он должен будет увидеть еще одного свидетеля своей, памятной ему вины. Волглая трава расступалась перед ним, и он ступал по ней, словно по зыбкой воде. У входа в землянку он набрал полную грудь воздуха, постучал:
— Есть кто живой?
В землянке некоторое время царила полная тишина, потом кто-то завозился, зашуршал, после чего определился голос — низкий, с хрипотцой:
— Кого еще Бог принес?
— Свои, — Золотарев почувствовал, что вконец задыхается, — увидишь признаешь.
— Своих много, — откликнулось изнутри, — да все чужие.
Но дверь всё же с тягучим скрипом открылась, и в проеме ее обозначился бородатый, в крупную рябину мужик, в котором нельзя было не признать Матвея Загладина, впрочем, и времени с той памятной им обоим поры прошло не так уж много.
— Признал? — К Золотареву стало возвращаться его обычное спокойствие, словно для этого ему и нужна была только вот эта встреча с Матвеем: лицом к лицу. — Вместе когда-то работали.
Тот безо всякого выражения оглядел его с головы до ног, сказал спокойно, с растяжкой:
— Никогда я с тобой, Илья Никанорыч, вместе не работал, потому как я работал, а твое дело было известное, но все одно заходи, гостем будешь, хотя, по правде сказать, лучше бы тебе мимо пройти.
— Ладно, Матвей, — обижаться Золотареву было бессмысленно, не затем он сюда шел, заранее зная, на что идет, — дело есть. Потом видно будет, чем нам с тобой пошабашить.
Матвей молча отступил в полутьму землянки, и Золотарев перешагнул ее порог. Сначала в глаза ему бросилась одна лишь икона в верхнем левом углу с крохотной лампадкой под ней, желтый язычок которой и составлял здесь всё освещение. Но немного пообвыкнув после серого света дня, он стал различать обстановку и вещи, если можно было назвать вещами скудный набор временного быта: нары, покрытые случайным тряпьем, железная печка-времянка, нечто вроде полки, где в ряд разместились — котелок, чайник, миска и кружка. Но в крайней непритязательности этого скудного жилища ощущалась хозяйская рука и личная аккуратность.
— Садись, — Матвей кивнул гостю в угол нар, сам опускаясь на них же, только ближе к двери, — больше негде. Растолкуй мне, неразумному, какое-такое может быть у тебя ко мне дело?
— Да вот сама Москва тебя разыскивает, приход предлагают открыть в Южно-Курильске.
Тот усмехнулся, удивленно покачал головой, ответил не сразу, выдержал гостя, вздохнул:
— Да нет уж, Илья Никанорыч, не по Сеньке шапка, пускай другого поищут, а я вам не потатчик.
— Смелый ты, Матвей, только к чему это, не таких ломали.
— Ломали да не всех. — Его голос вдруг отвердел. — Бригадира-то, вон, нашего так и не сумели, не по зубам он вам вышел.
Голос Золотарева перешел почти на хрип:
— Откуда тебе знать-то, такие дела не на базаре делаются.
— Только у вас, что ли, везде свои люди, ваша власть и держится-то тридцать годов, и сколько еще продержится — это еще бабушка надвое сказала, а наша вера две тыщи лет стоит, и сносу ей никогда не будет, помни, оттого-то мы и знаем завсегда больше вас, всё видим.
До Золотарева дошло, что собеседник давно догадался о том, что творилось сейчас у него на душе, и поэтому не затруднял себя излишними околичностями, бил наверняка. И, внутренне окончательно сдаваясь, он спросил еще глуше, еще удушливее:
— Расскажи.
— Изволь, Илья Никанорыч, изволь, — в упор глядя на гостя, заговорил тот, — мучали они его долго, с чувством, всё допытывались: какой-такой сговор он против власти замышлял, уж так им вызнать не терпелось — чего да с кем взрывать собирался, кого убивать, а кого отравлять иностранными газами. А он только, — в этом месте голос Матвея ослабел, надломился, — всё жалел их: зачем они эдакими глупостями занимаются. Те того пуще взбесились, будто звери дикие сделались, такая страсть началась, что и рассказывать страшно. Казнить вели, всё одно не держал на них сердца, только просил нас не трогать, потому как мы, по его, безо всякой вины. — Здесь он впервые опустил голову, уперся взглядом куда-то себе в ноги. — Одного греха себе не отпущу, что ушел тогда с брательником еще ночью: случаем услыхал твой разговор с начальником из Узловой, духу остаться не достало.
Читать дальше