Он кивнул. Отвернувшись, стал смотреть в окно. Да меня и саму утомил этот длинный разговор. Казалось, он начат был давным-давно, и я все время невольно ожидала его продолжения, как продолжения и, главное — главное! — завершения всех разговоров. Я бы ждала этого завершения всю жизнь, потому что человек ведь ждет конца, он не верит в него, отрицает его, но все время поджидает. Только так и возможно ждать: не быть уверенным, что ожидаемое произойдет — это ведь и есть свойство ожидания. В противном случае ты уже не ждешь, а просто знаешь, что нечто обязательно произойдет. Однажды, вероятно, в жизни каждого произойдет завершение всего, но мы ждем не этого завершения — мы ждем завершения в нашей общей жизни, в моменте, который мы все разделим, который будет нашим общим, а не чьим-нибудь. Завершение встреч и разговоров ради одной встречи и одного события .
Мысли мои разбежались — я вдруг подумала, как я надеялась, что в качестве больной никогда там не побываю. Все надеются именно на это. И если попадают, то уповают на случайность, на то, что их порывом занесло, по глупости, стечению обстоятельств. Но когда ты оказываешься в таком месте, уже вряд ли можно всерьез расчитывать, что здесь большую роль сыграла какая-нибудь жизненная нелепость. Значит, все не так просто. Значит, все правильно.
Расстегнутая цепочка, оставленный крест — почти, если это не слишком громко, отречение. Может, и громко, но бывают моменты, когда твое право и даже обязанность — сказать одно или два слова, не испугавшись их. Я дошла до уступа, где больше не оказалось сил. И захотелось передохнуть. Но, пока ты не умер, ты обычно должен идти. И у всякого — свои подталкивающие в спину. У меня — эти двое, крепкие мужики в синей форме. Ничего, они даже симпатичные. Да и как им не быть крепкими, им же вязать больных. Один в очках, с колпачком гелевой ручки, торчащей из кармана. Другой постоянно нажимает на кнопки сотового телефона. В окне мелькают углы домов, верхние этажи, кроны деревьев, пасмурное московское небо, нависшее низко, приблизившее ко мне свое большое пустое лицо с молчаливым вниманием.
С момента, как они приехали по паническому вызову, кажется, Лотты, я ничего не сказала. В ушах гремел лязг грандиозного сражения, которую развернулось в небе, а здесь происходит незримо, но мне казалось, что все это слышат. Я расшвыривала вещи, и, кажется, хотела кинуться в окно. Я молча, не раскрывая рта, кричала: просила прийти. Кого? Мне казалось, он здесь, со мной, незримо. Мне казалось, если я лягу или встану на одном месте, эти раскосые демоны накинутся на меня. Казалось, некто помогает, защищает меня, сражается с ними.
Но на самом деле его давно не было. Или его никогда не было. Или был, но не он. Или я звала не того. Или не звала. Или это действительно даже не я.
Ждали с Егором в приемном покое на красных дерматиновых стульях. Ушли мои угрюмые ангелы-санитары с опущенными книзу уголками рта и не глядящими прямо глазами. Осталась полная женщина за столом. Я разглядывала линолеум, он был совершенно такой же, как на кухне моей съемной квартиры, где осталась бедная больная Анечка. На окне стояла чахлая фиалка, как будто здесь ничто не могло чувствовать себя хорошо, расти, разворачивать листья, процветать. В пластиковой коробке стояло с полдюжины ручек. Приемщица подклеила страницу в какую-то растрепанную книжку и положила передо мной серый бланк, каких в изобилии во всяком учреждении.
— Подписывай.
— Зачем?
— Подписывай, меньше хлопот. Или через суд. Как хочешь.
Я подписала.
Когда мы пришли в отделение, Егор попрощался:
— Помни, что мы все тебя любим.
Я взглянула в его лицо и постаралась запомнить.
На лбу суровые складки. Брови надломились и сдвинулись. Глаза прищурены. В углах губ залегли морщины. Под веками пролегли тени. Цвет лица был серый. Фиолетовая рубашка накладывала багровые тени снизу.
Я кивнула. Постаралась запомнить.
Меня поставили на весы, провели в процедурный и приказали:
— Поворачивайся.
Странно, но укол боли не причинил. А я боялась боли. Но почему-то не почувствовала ее. Все равно. По обширному коридору, между сгорбленных теней и отражений, я проследовала почти до конца.
— Поздоровайся!..
В изоляторе стояло одиннадцать кроватей. Девять из них привинчены к полу, две другие — нет, их внесли и поставили там, где должен быть проход. Отделение переполнено. Самое время было бы, если б весна. Весной обычно случаются обострения. Впрочем, возможно, здесь в любое время года хватает недужных. Пока не знаю.
Читать дальше
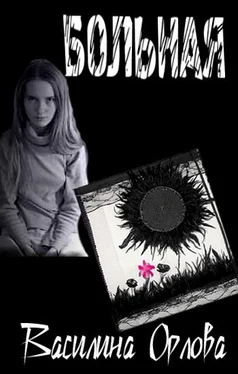




![Василина Боброва - Магичка [СИ]](/books/406321/vasilina-bobrova-magichka-si-thumb.webp)



