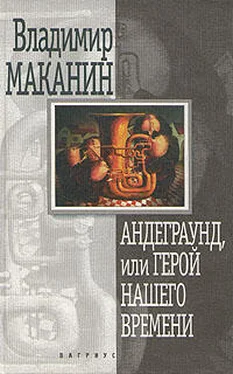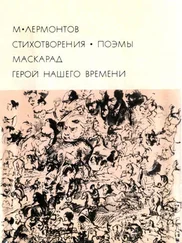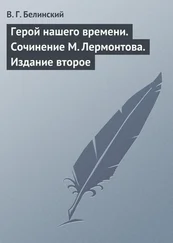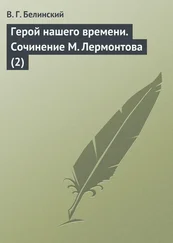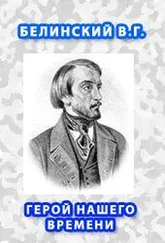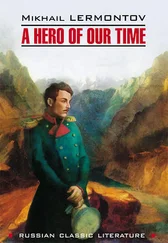И пусть; пусть он посострадает хотя бы внешне, хотя бы лицом — я пойму, потому что тоже знаю, как тяжело являть (выявлять) сочувствие человеку, от тебя уже давно отчужденному; сочувствие — бездонная яма. Посострадай, Смоликов. Мы ведь сострадаем всем и всему. Детям в больнице. Старикам. Забиваемым животным. Я иногда сочувствую, смешно сказать, поломанной под ногами былинке. Мне больно, куда ни глянь.
Смоликов сострадал мне, а я ему. Как знать, может, это он сейчас — как забиваемое животное. Как сломанная былинка...
Состоявшийся Смоликов не меньше меня (и не меньше Михаила) все про боль понимал, но сострадания преуспевшего всегда сомнительны — скорее кривлянья, чем корчи. Он очень аккуратно, гуманно корчился. Он мог говорить нам о «засасывающем» небе Италии и об Испании (нет, на корриде он не был; нервы), об Англии, о своих выступлениях в Питере (появился литературный салон с шикарными блядями), о финише Горбачева, о наших демократах, о новых русских — о чем угодно, но, конечно, не о себе. Такого он не позволит. Говорить о себе — это раздеться. Это ведь наголо; это уже не молитва, мил человек, а мольба. А как раздеться, если он весь беленький. Весь-весь. Как он откроется и как признается, что был в андеграунде только потому, что при брежневщине не воздали за его тексты, не сунули в рот пряник. Теперь пряник занимает весь его рот, пряник торчит, и Смоликов бегает с ним, как верная собака с потаской — служка Славы.
А ведь как ему не можется — как не хочется, чтобы его, Смоликова, считали сытым и занимающим посты. (Слыть одним из перелицованных секретарей перелицованного Союза писателей.) И потому повсюду, и особенно выезжая на Запад, господин Смоликов кричит, что он агэ, он андеграунд, он подземен по своей сути, а пряник во рту случаен, застрял сам собой, ибо таким, как Смоликов, ничего не надо, кроме искусства. Он искренен, мил, остроумен и даже к людям добр, но он — сука. Он зарабатывает на подземных писательских тенях, как зарабатывают на согбенных мудаках шахтерах, на их тягловых спинах. Общаясь с нами за водкой и ностальгируя, Смоликов берет белой ручонкой нашу андеграундную угольную пыль, грязь, гарь. Он прихватывает и какого-никакого уголька, въевшегося нам в кожу — собирает, соскребывает и быстро-быстро обмазывает свои висячие щеки, но еще и лоб, шею, плечи, руки, чтобы почернее и чтобы посверкивающими белками глаз (хотя бы) походить на тощего горняка, только-только вылезшего из забоя.
После того как выпили в память наших мертвых, Смоликов тут же вновь — по полной.
Чтоб всем нам, оставшимся, и дальше ходить по траве, дышать...
— По полной?!
Водка кого хочешь подталкивает к щедрости, и Смоликов не забыл, как не забывают запятую, сказать, что он поможет нам с Михаилом — нам, то бишь нашим текстам (такие слова всегда говорятся). Он, мол, готов быть для нас лестницей на литературном плоскогорье , хотя бы ступенькой. Обычная ступенька, мужики.
— Ступенька... Но для кого? — раздумчиво спросил Смоликов, затягиваясь сигаретой. Но тут же и смекнул, что невольно проговаривается на вдруг заскользившем слове.
Замел следы.
— Словесность! I love It! — выкрикнул (уже в сторону и как бы совсем пьяно) Смоликов.
Но именно плоскогорье смирило меня — зримый образ всеобщего взаимно настороженного равенства. Смоликов хорошо слукавил, талантливо: человеку за водкой приятно, когда нет выпендрежа. Когда нет выпирающих тщеславных гор и когда уравнивающее всех нас великое плоскогорье помогает людям затеряться — дает им жить жизнь каждому свою.
— Ностальгируй. Ностальгируй, сука, — шепчу я мысленно; шепчу ему , чокаясь с ним его водкой; и на один скорый миг наши глаза встречаются.
Михаил, миря нас, перепил. А я все закуривал сигарету с фильтром — старательно, но не с того конца. Смоликов мне, пьяному, и подсказал про сигарету; помог. Посмеялись. Уже вставали из-за стола; посошок, и я все-таки плеснул ему водкой в лицо. Но ведь не ударил.
Ближе к полуночи все трое, уже сильно набравшиеся, стояли у продуваемой ветром троллейбусной остановки на Садовом — все трое, помню, покачивались. Михаил слегка блевал; а Смоликов, уже не обидчивый и под занавес осмелев, меня выспрашивал.
Выкрикивая, господин Смоликов спрашивал то самое, что давно поди жгло ему язык (а может, и сердце; был ведь и этот орган):
— Почему?.. Почему тебе не печататься? Почему пишущий и та-лан-тли-вый человек не хочет печататься?!. Не по-ни-маю! — пьяно, полуистерично (и, конечно, пережимая, переигрывая в своем недоумении) выкрикивал он, Смоликов, вполне состоявшийся писатель, стоя лицом к пустой шири Садового кольца.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу