* * *
Я просыпаюсь от позвякивания. Колючий зимний день солнечным ножом полосует меня по глазам. Сначала различаю прическу, как у королевы Англии. Постукивают спицы, девятый номер, вязальщица коротает досуги, пока снесенные гильотиной головы не посыплются в корзину. Она последовательно кривит резиновые губы, и те в конце концов складываются в улыбку. Крокодилью – если б крокодилы умели улыбаться.
– Принести что-нибудь? – спрашивает моя бывшая свекровь таким тоном, что ни о чем просить не хочется. – Позвонили из больницы. Мы сразу приехали. Джереми целых два часа просидел с Мерлином, но потом ему надо было вернуться к оценке избирательного вотума. Так что теперь на страже я.
Избирательного вотума? Единственный вотум, который ему был нужен, – это вотум сочувствия. Он, вероятно, дает сейчас пресс-конференцию, посвященную сыну-инвалиду, попавшему в аварию и находящемуся в коме. Я вижу почти наяву, как журналистки сострадательно качают головами, а сами тайком взбивают бюсты.
Полностью придя в себя, я всматриваюсь в Мерлина. Грудь его ритмично вздымается и опадает. Без изменений. Меня затопляет онемелость.
Вероника шмыгает носом и промокает уголки глаз большим пальцем. Слезы эта женщина льет, только если ипподром в Эскоте заливает дождями аккурат на Дамский день [121] «Дамский день» – второй день «Королевского Эскота», четырехдневных скачек на ипподроме Эскот, когда по традиции женщины одеты по последней моде. «Королевский Эскот» – крупное событие светской жизни, на котором присутствует монарх. Скачки проводятся в июне с 1711 г.
.
– Какой кошмар, – произносит она, и я слышу в ее голосе ноту возбуждения. – Но не надо отчаиваться. Может, не было бы счастья, да несчастье помогло? – Вероника двигает стул с жесткой спинкой поближе и разглаживает твидовую юбку. – А вдруг Мерлин выйдет из комы совершенно другим человеком? Некоторые после комы вдруг начинают говорить на французском или даже на фарси. Или играть на рояле. Может, у него от шока связи в мозгу поменяются, – размышляет она вслух, одновременно и льстиво, и повелительно. – Может, он исцелится совсем? – Она трогает меня за руку так, как будто моя рука – чья-то домашняя зверушка, от которой аллергия. – Он такой красивый парень, правда? Как несправедливо, что у такой оболочки – настолько неудачный обитатель.
Пятно солнечного света озаряет изящные Мерлиновы черты.
– Я не хочу, чтобы он исцелялся совсем! Я люблю его таким, какой он есть. И никакой не неудачный. Сами вы неудачная.
Мне приходится сдерживаться изо всех сил, чтобы не орать на нее. Но голос я все-таки повысила. Вероника подалась назад, и дурацкий начес у нее на голове заколыхался, будто капюшон у кобры.
– Тебе, я думаю, стоит обратиться к терапевту, Люсинда.
В путаных моих мыслях возникает высокомерная Ла–я, с этим ее визгливым тире. Ага – то, что доктор прописал.
Сипит дверь, и в реанимацию влетает моя мама. На моей обычно кокетливой родительнице разномастные туфли, одна леопардовая, другая бархатная синяя, волосы во все стороны, не накрашена. Цветастый наряд, помятый от беспокойства, висит на ней, как паруса в штиль.
– Милая моя, милая, ну что же ты не позвонила?! – Она стискивает меня в объятиях и раскачивается минут пять, не меньше, а потом вдруг замечает Веронику, прищуривается и обливает ее презрением.
– Я пришла предложить слова утешения.
Мама выдергивает страницу из книги Фиби по стервозности:
– Ну, раз уж мы в больнице, может, зарезервируем время под вас и пересадим вам совесть? А может, и донор позвоночника для вашего трусливого сынка найдется.
Лед в ее голосе вымораживает беседу. Поднявшись на ноги, моя медоточивая безмозглая бывшая свекровь выдавливает улыбку, но глаза у нее горят негодованием.
– Я все передам Джереми и буду регулярно приезжать. Это мой долг как заботливой бабушки, – выбрехивает она и царственно затворяет за собой двери.
Мама держит Мерлина за руки, плачет.
– Слезные прокладки сносились вместе с остальной сантехникой. Я вся подтекаю, – говорит она, пытаясь взять себя в руки.
Следом появляется Фиби – прямо из аэропорта, в съехавших от спешки чулках. Война меж ними позабыта, и мама обнимает обеих дочерей.
– Лишь женскому сердцу известна слепая преданность матери своим детям, – выговаривает она, и мы все ревем, сбившись в кучу.
Слезы выплаканы, нам остается только сделать вдох-выдох – и ждать. День ползет мимо. Когда я в следующий раз выглядываю в окно, небо уже потемнело, как огромный синяк. Воздух пропитывается серостью. Он почти твердый. Неразличимое время спустя из чавкающего внешнего мира прибывает Арчи, приносит с собой сырой грибной дух дождя. Снимает промокшую верхнюю одежду и почти с нежностью укладывает ее на батарею. И молча усаживается рядом с нами. Уборщица оглядывает нас без всякого интереса, нимало не заботясь о том, что нас всех размозжило горем.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

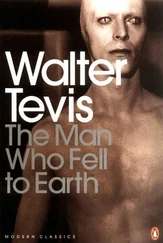


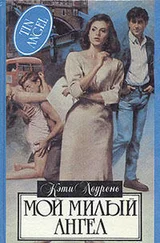




![Яна Летт - Отсутствие Анны [litres]](/books/437964/yana-lett-otsutstvie-anny-litres-thumb.webp)


