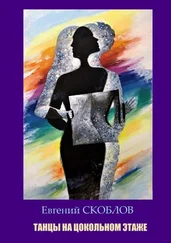И тут я задал ему вопрос, который созревал во мне с утра:
— Вам кажется и сейчас, что вы никогда не умрете, с той же силой, как тогда, на рассвете, под джаз?..
— Вы хотите узнать, что это было: действительно открытие или естественное после бессонной ночи состояние эйфории. — Рот его опять поспешно съехал набок. — А если я не отвечу, обидитесь?
— Я и сам на вашем месте, видимо, не ответил бы.
Мы выпили еще кофе и стали составлять расписание на завтра: куда нам пойти. Решили опять — на этот раз подробно — осмотреть собор.
— Если хотите, — обронил Митя мимолетно, — завтра могу вам дать почитать то, что записал сегодня ночью о соборе. Сейчас я изложил это бегло и поверхностно…
— Почему завтра? — возразил я. — Лучше сейчас, чтобы я уже понимал то, что увижу.
Он со мной согласился. И ночью я опять разбирал его почерк, отнюдь не похожий на изящный, узкострельчатый, точный почерк Великого Архивариуса и Летописца Таама. В потоке нервных, с помарками, быстро бегущих строк было несколько не относящихся ни к собору, ни вообще к архитектуре: «Сначала надо понять, что ты начался с первых рисунков оленей на стенах пещер, а потом, что ты не кончишься никогда, потому что нет и не будет минуты, когда бы не возникали рисунки оленей на стенах пещер в мирах, затерянных в космосе…»
Утром, не обмолвившись и полусловом об этих строках, я вернул Мите его неразборчиво исписанные листы. Он открывал мне собор — исшарканные миллионами ног ступени и разноцветные окна, резьбу кафедры, фигуры из дерева, легкие хоры и орган — лес безмолвно нависавших над нами тускло-стальных, заостренных книзу труб…
Вечером, за кофе, мы больше молчали, чем говорили, должно быть, от усталости.
Я думал о том, что завтра, когда «тайно светящиеся пласты человеческого сердца», наконец, станут явными, какой-нибудь наблюдатель с Марса или Венеры увидит земной шар купающимся в сияющем радужном облаке. Чудодейственная сила этого облака будет ощущаться в космосе, как могущественнейшая из участвующих в миротворении энергий.
1968 г.
ЗОЛОТОЕ ВЕСЛО
(Письма из Эрмитажа)
Самая таинственная в мире вещь — время. В детстве, перевернув быстро, чтобы никто не увидел, песочные часы, можно обмануть доктора или маму и понежиться подольше в воде, пахнущей сосной, летним лесом. Легкость, с которой меняются местами в твоих руках чашечка, полная песка, с той, что уже почти опустела, веселит сердце: ты возвращаешь начало начал, первую минуту.
Потом, становясь старше, узнаешь о Фаусте, пожелавшем перевернуть часы жизни, когда наверху осталось лишь несколько песчинок, узнаешь о мечте человека стать господином этого странного песка. И то, что было игрой, шуткой детства, не удается уже никогда — ты не можешь вернуть даже той ускользающей доли минуты, что называют красиво «мгновением ока». Время необратимо — мельчайшая из песчинок падает, падает… и нет в мире силы, что могла бы ее удержать.
Куда же она падает? Об этом думали и маленькие несмышленыши, и великие мыслители. Миллиарды мальчиков и девочек — и Сократ, Кант, Эйнштейн… Ребенок становился мыслителем, мыслитель становился ребенком, думая об этом. Человеку казалось, что, поняв, куда падает песчинка, он остановит падение золотого песка, удержит в ладонях. И можно будет вернуть то бесценное, то не повторяющееся никогда, что жило в нем и в мире.
Когда Леонардо да Винчи писал портрет Моны Лизы, музыканты развлекали ее игрой на лютне. Вероятно, хотелось художнику, чтобы для юной женщины летели быстрее часы утомительных сеансов. Но музыка, освежая тело и душу, меняла настроения, состояния сердца, отражавшиеся на лице, и была, в сущности, чем-то несравненно большим, чем развлечением. Настойчивость, с которой Леонардо заставлял музыкантов играть в течение четырех лет, наводит на мысль, что художник хотел вернуть душевное состояние, которое не успела запечатлеть его кисть, более медлительная, чем сердце Джоконды. Ее лицо менялось непрерывно, и в этой игре однажды мелькнуло что-то, выразившее с наибольшей полнотой духовную суть женщины (а может быть, и эпохи). Леонардо и надеялся музыкой, ее завораживающими повторами вернуть то «мгновение ока» — тот момент истины. Началось с желания развлечь, а кончилось желанием перевернуть часы, поймать кистью бесценнейшую из песчинок.
На портрете Мона Лиза изменчива фантастически. И изменчивость эта вызывает чувства самые различные — от ощущения ее женской беззащитности и нежности к ней (издали) до почти религиозного поклонения высшему существу, для которого в мироздании и человеке ничего непознанного не осталось (лицом к лицу, когда из-под живых ее пульсирующих век выглядывает на миг кинжально острая мысль о самом тайном в тебе и уже сам чувствуешь себя беззащитным).
Читать дальше

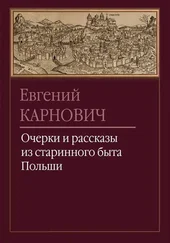

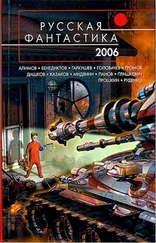




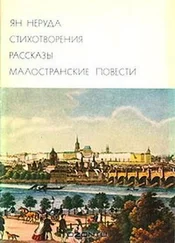
![Евгений Дубровин - Грустный день смеха [Повести и рассказы]](/books/425232/evgenij-dubrovin-grustnyj-den-smeha-povesti-i-ra-thumb.webp)