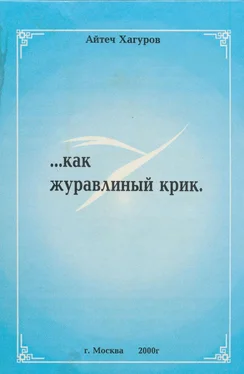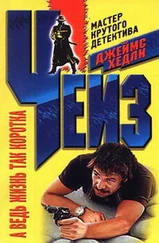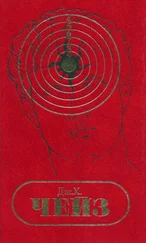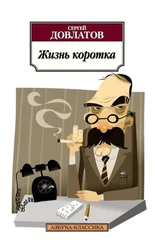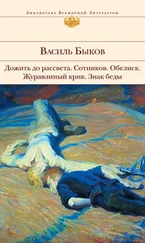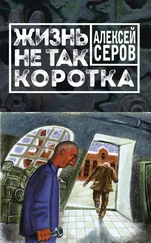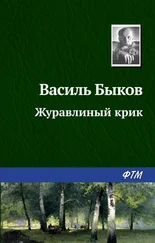Кукуруза была питанием универсальным. Из нее готовили пастэ (адыгейский вариант мамалыги), хьантхупс (похлебку), ащрай (суп на молочной основе), хьатыкъ (нечто вроде булочки, но из кукурузной муки), мэджаджь (похож на пирог, особенно если с тыквой), гуйбат (то же, что и булочка — хьатыкъ, но не печеное, а вареное), щипс (соус). Обычно нашей едой были мамалыга — пастэ и соус — щипс с картошкой или фасолью, и пастэ с щиу (кислым молоком). По особым дням пекли хьатыкъ — булочки и мэджаджь — пирог.
Количество кукурузы определяло уровень благосостояния семьи. Поэтому главное событие осени — уборка и заготовка кукурузы. Последнее включало, кроме уборки на огороде, добычу кукурузы и на колхозных полях.
У адыгов есть выражение, полностью соответствующее русскому «хлеб — соль»: встречать хлебом — солью, быть щедрыми на хлеб-соль. Однако в адыгейском варианте вместо «хлеба» фигурирует «пастэ» — мамалыга. К сожалению, ныне этот наш адыгейский хлеб утрачивает свое значение…
Картошка, тыква и фасоль — следующие по значимости.
Кроме огорода у тети был хэтежьий — огородик. Находился он недалеко от хаты и был отгорожен от основного подворья. В нем выращивались специи, придававшие аромат всему, что мы ели, особенно щипсу. Соус на основе кукурузной муки с картошкой мог так благоухать, что проходившие по улице люди поворачивали носы в сторону нашей хаты и жадно вдыхали воздух.
С завершением работ на огороде чаще стали появляться у нас гости. Как правило, они приходили к тете Сасе погадать. Тетя гадала и на фасоли, и на кукурузинах. Во время гадания ее нельзя было
тревожить — она входила в состояние самоуглубленности и отрешенности, шептала молитвы. В повседневной жизни тетя мыслила конкретно, критически и очень здраво. Когда же она входила в состояние гадалки (а в этом состоянии она много философствовала), начинала рассуждать необычным способом — как будто у нее появлялся новый источник знания. Суждения ее становились отвлеченными и парадоксальными. Мне запомнилось одно ее такое суждение о женщинах: «Да что мы, женщины… Женщина — это храм, возведенный над сточной'канавой».
После нескольких манипуляций над зернами кукурузы или фасолинами они укладывались в девять кучек, образуя квадрат со сторонами три на три кучки Однако количество зерен в каждой кучке каждый раз оказывалось разным — от одного до четырех. Попробуйте кучу из сорока одного зерна на глаз разделить на три части. Из первой отбирайте по четыре зерна до последнего остатка — в нем может быть от одного до четырех зерен. Этот остаток и есть первая «точка» в крайнем верхнем углу квадрата. Таким же способом получается из второй части вторая «точка» — она располагается слева от первой по верхней линии. Из третьей части получаем крайнюю верхнюю левую «точку». Первая математическая закономерность в том, что в трех кучках — «точках» первого верхнего ряда — общее количество зерен будет равно или пяти, или девяти.
Оставшиеся от расклада первого ряда зерна собираются в общую кучу и она опять делится на три части. Тем же методом вычитания по четыре из каждой части получаем справа налево три «точки» второй линии, располагаемой над первой. Остаток зерен снова перемешивается, делиться на три части, которые составляют «точки» нижней линии. Во втором и третьем рядах кучек — «точек» общее количество зерен будет или четыре или восемь. И это вторая математическая закономерность.
Местонахождение каждой кучки и количество зерен в ней имело определенное толкование. После первого гадания кучки смешивались — и снова все зерна раскладывались в девять кучек по этим же правилам. На одного человека положено раскладывать три раза.
Приходили гадать на сыновей и на мужей, от которых долго не было вестей с фронта…
Одной женщине тетя Саса предсказала: в ближайшее время получит она благую весть. Дня через три женщина пришла к нам радостная, с коробкой кукурузы и петухом под мышкой — гонораром
за точное предсказание. Женщина получила письмо от сына, который был жив, здоров и даже, как он сообщал в письме, выслал матери посылку.
После этого число желающих погадать значительно увеличилось. Всю зиму они не переставали приходить.
Невестку в доме все звали Нысэ — невесткой. Так ее зовут и соседи. Во многих семьях даже дети называли своих матерей не нан (мама), а Нысэ.
Тетина Нысэ относилась ко мне с добрым юмором, брала с собой на мельницу. Ходили на мельницу с жестяной коробкой, полной кукурузы. Это была у всех принятая мера для одного помола. Мельница была собственностью одного из соседей, но ею пользовались бесплатно все остальные. По деревянному основанию, имеющему металлические насечки — нижний жернов, вращался на оси верхний, тоже деревянный жернов, тоже с металлической насечкой. Верхний жернов вращали, конечно, вручную.
Читать дальше