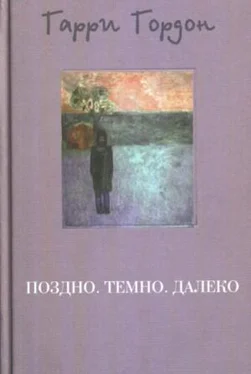Мы возвращались, повиснув на подножке трамвая, нас было много, висящих, мы держались не за поручни, а друг за друга, время от времени кондукторша лениво, нехотя даже, протягивала в окно руку и сдергивала с ближайшего пассажира тюбетейку и бросала на мостовую. Тот спрыгивал, громко стуча сандалиями, набегал новый, кричал: «Место!», — мы передвигались на пуантах, освобождая клочок подножки.
Внезапно трамвай остановился, не доезжая до остановки, и нас окружила милиция. Нас затолкали в детскую комнату, нас было много, мы оживленно переговаривались, как будто делали общее дело, голоса наши звучали гулко, как в бане.
Обслуживали нас двое — старший лейтенант и толстая тетка в форменной рубашке без погон. Деловито писались протоколы, давались показания, комната пустела. Кока наотрез отказался называть себя и свой адрес, был бледен и смотрел исподлобья, как герой-пионер Валя Котик, я им гордился, и, отчаянно хохмя, показаний не давал тоже. Наши мучители были невозмутимы, посадили нас в углу и занялись своими делами. Тетка приволокла авоську с продуктами, куриная голова вывалилась в ячейку авоськи, клювом елозила по линолеуму. Лейтенант курил «Беломор» и что-то писал. Мы сидели в полутемном своем углу, а рядом, в двух шагах, была свобода, она весело дымилась в зубах лейтенанта, она проветривала у форточки теткины подмышки, громыхала трамваями за окном. Даже мертвая курица в авоське была свободнее нас.
Мы молчали. Перед нами висел на стенке фотомонтаж о Сталине, была там глянцевая фотография — юный Сталин с бородкой, держась за тюремную решетку, кричит в окно заключенным, отправляемым на этап: «Берегите кандалы, они нам пригодятся для царского правительства!»
Я нашел, что когда у меня вырастет бородка, я буду похож на Сталина, детская колония была мне нипочем, я с презрением смотрел на тетку, роющуюся в ящике стола. Неожиданно спокойно, не глядя на нас, заговорил старший лейтенант. Он сказал, что понимает нас, сам был пацаном, и что любимый его фильм — «Подвиг разведчика», но там были враги, которых надо уничтожать, а здесь — трамвай, который мог перевернуться и задавить сограждан, и что мы здесь уже два часа, и что он и Варвара Степановна через час сдадут смену и уйдут домой, к детям, а нами займутся другие, и все начнется сначала, и завтра, и послезавтра, и так до суда, а родители, наверное, уже беспокоятся, а у него нет возможности сообщить, где мы…
Я представил себе батю, расхаживающего из угла в угол и ругающего маму, что вечно она мне потакает, маму, хватающуюся за сердце, пьющую валерьянку…
«Бедное сердце мамы, — вспомнил я песенку, жалостливо напеваемую Эдиком, — еле стучит в груди… доктора не зовите, сына мне возвратите…». Я заплакал в нашем полутемном углу, заплакал и раскололся.
Я подбросил сосновых веток в догорающий костер, сразу стало теплее, темнее стало вокруг. Голова не проходила, сухо было во рту, я пожевал немного твердого снега. Все-таки в похмелье что-то есть. Какой тяжелый и нелепый длится вчерашний день в полчетвертого утра. Часа через два пойдут автобусы. Я всегда знал, что март — самый смертельный месяц, все силы природы вымерзли, выветрились.
Хоронили сегодня Мастера. Мастер болел уже давно, несколько лет, после смерти жены перестал спать, уехал из Москвы и, как сам себя назвал однажды — «краснорожий, ражий», — превратился в худенького старичка с запредельным взглядом. На неосвоенном свежем кладбище топталось десятка три провожающих, говорились речи, критик Дымов плакал, обещал пробить полное собрание сочинений.
Синел лицом Окуджава, отвернувшись от толпы, в двубортном коричневом старческом довоенном пальто с налипшими соринками смотрел в серое небо Давид Самойлов, выпуклые его очки с сильными диоптриями были полны слез. Недобро, как загнанный, озирался Межиров в желтой дубленке. Мы, ученики, чернели вокруг.
Талый снег проваливался, смещался, менял очертания, тускло блестел оловянной фольгой, фантиком, оброненным Богом. На этом фантике копошились, оскальзываясь, темные маленькие существа, шевелили антеннами, доедали горькие, сладкие крохи…
Возвращались мы с Любой рейсовым автобусом, прилип к нам сумасшедший поэт Каширин, и говорил, говорил, то восторженно, то печально. Алеша уехал со всеми, вяло махнув мне рукой.
После их с Любой разрыва жизнь моя стала невыносимой. Они откусывали меня с двух сторон — единственного, связывающего их, вгрызались яростно, сквозь меня сближаясь, обвиняя, каждый отдельно, меня в двуличии и предательстве. Я терпел, грозно иногда обещая с понедельника начать жить для себя.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу