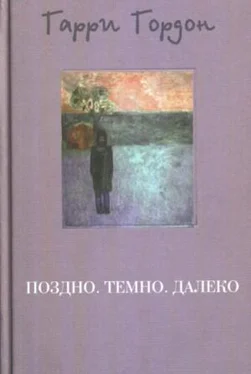Жара была безысходная и обложная, как дождь. По ночам было душно, как после дождя, разочарованные шаги одиноких прохожих не давали эха, тускло и жирно блестели мощеные мостовые. Рухнул большой кусок резного карниза на Екатерининской улице, никого не убил, не зацепил даже, никого не было вокруг.
Посреди двора на Ольгиевской, на солнцепеке, сидел мальчик в трусах и бездумно, как заведенный, тер абрикосовую косточку о кирпич. Если вынуть сквозь протертую дырочку зернышко, получится свисток, а если кусочек зернышка оставить, свисток будет давать трели, совсем как милицейский.
Город, которому не было еще и двухсот, стремительно ветшал, был сморщен и старообразен, как дитя, зачатое алкоголиками. Да он и планировался как подделка под дряхлеющую Европу, кракелюры были заключены в идею.
Мудрость одесситов была скороспела, румяна и гидропонна, и плохо держала удары не только времени, но и погоды. Старики, чувствующие себя внучатыми ровесниками города, крепили связь времен вытертым, облысевшим фольклором, шикарной небрежностью и врожденным, историческим страхом, что отключат воду. «Воды нет», — доложили императрице. «Ассе д'о, — ответила Екатерина, — воды достаточно». Прочитанное наоборот заключение это и дало, говорят, название городу.
Лавой Везувия, привозимой в трюмах вместо балласта, мостили город, и лава время от времени просыпалась, напоминая о своем происхождении адским жаром. Все живое морщилось, кукожилось, возвращалось к своим истокам. Мирный бухгалтер Андрющенко где-нибудь на Слободке вскакивал ночами в трезвом бреду, будил дом криками: «Гэть, усих порубаю!» Женщины на Молдаванке переругивались через силу на чистом иврите.
Почва у обрывов между Большим Фонтаном и Люстдорфом трескалась, отделяя от материка то беседку, то кусок тропинки со скамейкой; пласты кирпичной глины высотой с трехэтажный дом оседали либо рушились плашмя, заваливая дорогу и сминая самостроенную хибару на нижнем ярусе.
В конце августа все заволокло в одночасье мутным дымом, плотным запахом гари и еще чего-то, забытого, и потому пугающего.
Оцепеневшие горожане не удивились концу света, а удивились несколько позже, догадавшись, что это туман пришел из-за моря, и пахнет он, помимо гари, чистой влагой. Размазанное солнце слабо светилось, как оброненный в бочку обмылок.
Очнувшись и обретя привычный голос, одесситы стали громко сетовать, что чудное лето пролетело так быстро, что только-только согрелись, и теперь вот опять предстоит слякоть, и ветры, и мокрый снег. Оптимисты сопротивлялись, утверждая, что это временное явление, что сентябрь еще даст, и вода еще не остынет, и мы еще скупаемся, вот увидите, но кто в Одессе слушает оптимистов…
Прохожие в тумане менялись в размерах и очертаниях и были интересны друг другу, как иностранцы или даже марсиане. Наиболее любопытные и очнувшиеся находили себе дополнительные дела и выбегали из дома, как на экскурсию. Голоса их раздавались приглушенно и широко, как на дне, откуда-то из-под солнца. Маяк-ревун висел над портом одной высокой безутешной нотой.
Туман постоял два дня, приподнялся, уплотняясь, и упал долгим холодным дождем.
Город наливался цветом. Посинели листья сирени, стволы каштанов и кленов излучали холодный черный свет. Капли с темной сердцевиной, как с зернышком, висели на колючках рожкового дерева.
Буксовали на пологих глиняных спусках у моря испачканные фанаты-рыболовы. Оживился малый круг. В винарках стоял запах мокрых дождевиков и накидок, посетители были приветливы и говорливы, как после болезни или долгой разлуки.
Через несколько дней проснувшиеся с головной болью оптимисты были вознаграждены — ясное голубое солнце полыхало в золотистом небе, слепило в промытых стеклах, что-то посвистывало в кронах, пищало, ворковало. С новой силой заливались трамваи, под бордюрами мостовых иссякли ручьи, оставив тонкую струйку распластанных желтых листьев.
Робко похаживали по мокрому песку Аркадии выбравшиеся из своих палат жители санаториев, трогали ладошкой воду, смотрели бессмысленно в плоскую маслянистую даль. Некоторые осмеливались, разбредались по сторонам, в незнакомые бухточки, взбирались на желтые, сверкающие вкрапленными ракушками скалы, и видели в раздавшемся море серые лодочки, заключенные внутрь стеклянного шара. Пошла ставридка.
Сентябрь набирал свежесть постепенно, исподволь, свежесть по утрам переходила в холод, деревья грецкого ореха белели, не желтели даже, осень вызревала, как яблоко белый налив, или, может быть, как дальнее, северное, антоновское. Первыми дрогнули каштаны, посерели сначала, потом заржавели, обращали на себя скорбное внимание среди зеленых как ни в чем не бывало акаций. В конце сентября в районе дач и предместий запахло кострами. Сжигались листья, садовые сучья и огородная ботва. Горький этот дым, смешиваясь с соленым морским туманом, выжимал слезы даже из крепких хуторян.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу