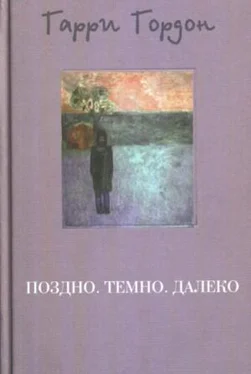— Ну, в общем, концовка уже есть, — сказал Эдик. — Осталось только записать.
— Илька погибнет? — спросил Карл.
— Я знаю!? — рассердился Эдик. — Посмотрим. Валя поставила на стол миску с жареной рыбой.
— Это короп, — сказала она, — у нас давали. Некоторым не нравится, что он костлявый, но, по-моему, ничего.
— Валя, — взмолился Карл, — я же только что дома обедал!
— Ну и что. Тебе надо кушать. Вон ты какой худенький. Тебя что, в Москве не кормят? — игриво спросила она.
— Мама, оставь человека в покое, — заступилась Лена.
— Без сопливых обойдемся, — заметила Валя. — Брось папиросу, когда люди кушают. И не пей больше. А ты закусывай, — прикрикнула она на Эдика.
Разобравшись с домашними, она вздохнула:
— Как ты думаешь, Карлик, это когда-нибудь напечатают?
— Надо выйти на кого-нибудь маститого, — неопределенно ответил Карл.
Ему было стыдно, что он, вроде бы столичная штучка, а поделать ничего не может. Напечатать это невозможно — все в повести представало в новом свете, далеком от принципов социалистического реализма. «Здорово, — скажут в любом издательстве доброхоты, — свежо и талантливо. Но сам понимаешь, старик…»
— Если напечатают, я подарю тебе лодку — пообещал Эдик.
— Зачем мне лодка в Москве? — засмеялся Карл.
— Все равно, — настаивал Эдик, — у человека должна быть лодка и теплая писька.
— Тогда подари мне теплую письку.
— Старые дураки, — хмурилась Валя, — кушайте лучше.
Карл рассказывал о московской своей жизни, о семинаре Мастера, о службе от звонка до звонка в проектной организации. «Отчего это я в Одессе всегда стараюсь казаться добропорядочнее, чем на самом деле, — досадовал он, — кому это надо?» Пообещав зайти завтра, Карл торопливо поехал в город.
К бару «Красному» он подходил с легким нетерпением. До закрытия оставалось около часа, погода никакая, унылая, но довольно тепло, в баре, наверное, все удивятся, а кто-нибудь и обрадуется. Надо будет определиться.
С одной стороны, хорошо бы походить по мастерским, посмотреть, как теперь ребята работают, и самому почитать, что-то вроде творческого отчета. Художники, правда, странно относятся к поэзии, ищут в ней, прежде всего, подтверждение своей правоты, разбирают то, что не разобрать, слова не чувствуют или просто не ценят, так — «от пятна и в тоне…» Можно согнать их вместе, художников и поэтов, и посмотреть, что из этого выйдет. Плющ наверняка скажет что-нибудь вроде: «Как хорошо» — художники думают, что он хороший поэт, а поэты — «Какой он, наверное, хороший художник». Падла. Тонкий Ройтер будет мягко улыбаться, а Череда — Боря будет кипятиться и говорить все наоборот.
В то же время хотелось и другого — вываляться в грязи, как, ну, не свинья, конечно, а слегка, — как носорог или, скажем, слон, — для защитного слоя. В общем, нечего загадывать.
В баре действительно было много народу, но все — не знакомые, а чужие, с более светлыми, что ли, глазами. Когда он вошел, некоторые посмотрели на него с легким недоумением, как на человека, не умеющего вести себя в приличном обществе. Карл сел на высокий стул у стойки.
— Что для вас? — спросил Аркадий, и тщательно налил заказанные сто грамм и стакан томатного сока.
— Ты что, Аркадий, меня не узнаешь? — удивился Карл, отхлебнув.
— Нет, почему же. Как Москва?
— Ничего, стоит, — Карл с досадой допил водку и вышел.
На углу стоял Морозов и простирал руки. Он прижал Карлика к животу и, откинувшись, силился поднять. Тот помог ему, слегка оттолкнувшись от асфальта.
— Ню? — в один голос спросили они и рассмеялись.
— Ты не торопишься? — спросил Морозов и стал рассказывать.
Карл пытался сдвинуть его с места, увести его куда-нибудь, усесться и слушать хоть до утра, но Морозов говорил: «Подожди» — и продолжал. Карл давно уже знал, что все всегда бывает не так, но чтобы до такой степени… Морозов с места никак не сдвигался, Карл вздохнул и стал неохотно слушать…
Летом у Марика Ройтера умерла мама, а на той неделе Морозов проводил его в Америку. Приезжал Нелединский, пьянствовал месяц где-то на Фонтане, втрескался в стукачку, приболтал, как он это умеет, прижал на берегу, — а у нее из-под юбки пистолет выпал. Макаров. Ну, Кока ноги в руки — и в свое Ала-Тау. А с Плющом вообще… Приезжала Галина Грациановна, пробыла что-то уж слишком долго, Плющик никак ее не мог отправить, все искал деньги на дорогу, только сдыхался, холсты расставил, а, Карлик не знает, у Плющика была мастерская, как у порядочного, только, значит, прищурился, — бах в дверь! — Открывает, а там беременная, тетка не тетка, в общем — девушка на восьмом месяце. Я, говорит, буду у вас жить. Плющ удивился и спрашивает: «А на каком, извините, основании?» — «А какое вам еще нужно основание, козлы, одно лишь на уме, а мне теперь жить негде, мать выгнала». Плющ внимательно всмотрелся — нет, вроде никогда раньше не видел, обрадовался и сказал — живи. Месяц примерно он за ней ухаживал, в магазин ходил, ведро от бабушки приволок, портрет ее писал и читал ей по вечерам «Катерину» Тараса Шевченко. Как там — «кохайтэся, чернобриви, та нэ з москалямы…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу