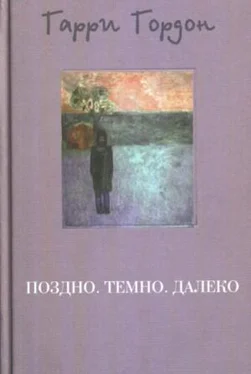В начале октября над морем начался перелет паутины. Она летела низко вдоль берега, цепляя волны и камни, желтыми и серыми жгутами, рваной кисеей, неизвестно откуда бралась она в таком множестве, казалось, сама дымка, стоявшая над морем все лето, не выдержала напора северного ветра, продырявилась, сорвалась с небосвода, обнажив синий купол.
Начались штормы. Железного цвета волны быстро сменились белым месивом бешеного прибоя, начинавшегося далеко, чуть ли не у самого горизонта. Грязные мартыны, цвета пены, ходили беспокойно по берегу, как рыбацкие жены, ветер задирал им крылья, и они старались прижимать их покрепче, поднимали, переминаясь, мерзнущие сизые лапки.
Собака Шурик лежала за будкой в коричневом бурьяне. Монотонно трепетал надорванный рубероид на крыше, гремело море, и никого не было вокруг. Боцман Коля запер будку и ушел зимовать к семье на Заставу.
Нужно было добывать пищу, но собака медлила — под розовым животом была сухая пригретая земля. Наконец, она заставила себя, встала рывком и побрела на дорогу, ведущую в Аркадию. В маленькой шашлычной сняли с зонтиков полотняные тенты, но заведение еще работало, забредали еще сюда романтические парочки, запивали водкой говяжий шашлык. Собака неслышно улеглась под столом, железный стул сдвинулся со звуком дальнего ревуна.
Карл приехал во второй половине сентября. В Москве остался посветлевший асфальт, промерзающие за ночь грудки земли, перемешанной с черной палой листвой, ветры в подворотнях, чад от переполненных автобусов, серые лица угрюмых милиционеров, негнущиеся, брусничные от холода пальцы, проталкивающие пробку в бутылку портвейна, утренняя давка у входа в метро «ВДНХ».
В поезде было тепло, попутчиков в купе не было, или были, во всяком случае, Карл позволил себе не обращать на них внимание. Обычно это была проблема — он или замыкался, стесняясь даже есть, или нес из вежливости околесицу. Сейчас, после трех лет отсутствия, он ехал в Одессу, домой, в конце концов, на целых две недели, и был сосредоточен на себе и предстоящей встрече.
Было чувство вины и неловкости за редкие, относительно правдивые письма, за неверную, путаную их интонацию, то нарочито сдержанную, то игривую, а главное, за обиженность свою на то, что если и не выпихнули его из Одессы, то, по крайней мере, не удержали.
Поезд неохотно пробирался сквозь желтые полустанки, платформы с черными толпами ожидающих электрички, прозрачные перелески, торопливо начирканные карандашом. Проехали грязное, бедное какое-то Переделкино, лязгающий Нарофоминск. А вот и станция Обнинское. Там, подальше, в ольховой, осиновой, еловой глубине живет Сашка. Иногда туда долетают слабые алименты. Сколько ему уже? Десять.
Стемнело. После Калуги поезд побежал быстрее, сбиваясь, по настроению, с дактиля на амфибрахий, как бы подпрыгивая на ходу, меняя ногу.
«Мне удалось раздобыть билет,
И поезд еще не ушел.
Еду в Одессу, которой нет,
Это ли не хорошо?
Там свежесть сгоревшего огня
Серая тень таит.
Одесса забыла, что нет меня,
И ничего, стоит, — надо записать. —
Но где-нибудь на перекрестке лучей
Каждому по лучу
Одесса спросит меня: ты чей?
И я свое получу — журнальный вариант», — вздохнул Карл, но бумажку не порвал.
На верхней полке спалось долго, разнеженно, с приятной ломотой в костях. Утром, после Киева, появилось солнце. Березы стали попадаться реже, прибавилось сосен и осин, обрамленных лиловатыми листьями. В Виннице Карл выходил на платформу в одном джемпере, было тепло, как и предполагалось, но все равно удивительно и хорошо. Редкие старушки подходили к поезду с ведерками груш и яблок, желтой вареной кукурузой-пшенкой, домашней и ворованной кооперативной колбасой, криминальные тетки, значительно глядя махровыми глазами, лезли к себе за пазуху — предлагали водку, болгарские сигареты «Родопи». Не было изобилия шестидесятых годов, но все равно это была уже не Москва.
Под самой Одессой совсем запахло весной, тополя стояли темно-оливковые, на теплой земле подворий, под самой насыпью, белели астры, темнели на фоне белых хат слегка подсохшие розы, куры гуляли, и хлопец смотрел во все глаза, не отрываясь, на проходящие вагоны. На Одессе-малой, в пяти минутах от вокзала поезд стоял долго. Под мостом шли трамваи — двадцать девятый и тринадцатый, спрыгни — и ты в шести, нет семи остановках от дома…
«…Потом было утро. Холодное яркое солнце плавило через шапку голову. Иней отовсюду цветными иглами прокалывал глазные яблоки. Голубые тени редких сосен лежали очень правильно на розовом снегу. В ближнем воздухе медленно летали вороны и кричали продольными и поперечными голосами, запутывая сознание. Илька сел. Его тут же укачало и стошнило желчью. Тогда, чтобы восстановить равновесие, положил на голову под шапку снег, и пополз посмотреть, что с Генкой. Тот лежал, неловко повернув руку, очень похудевший и мертвый. Абрикосового цвета лицо его было покрыто серебристым инеем. Голубовато-белая пленка склеила темные сургучные губы…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу