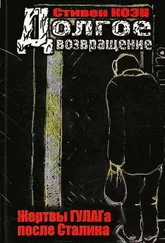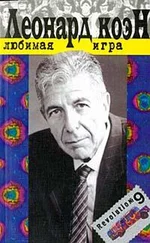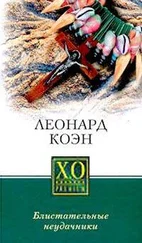Обнаженный, с гладким лицом, он открыл старый чемодан, достал оттуда накидку из синагоги, поцеловал бахрому, прикрыл свою наготу и произнес благословение, затем достал корону для праздника Судьбы, Пурима, корону Рашели, которая всегда сопровождала его во всех странствиях, помятую, с фальшивыми камнями, надел ее и пошел сквозь ночи и века, задумчивый и прекрасный, остановился перед этим одиноким королем в зеркале, улыбнулся своему отражению, спутнику всей его жизни, хранителю всех его секретов, отражения, которое одно знало, что он — царь израильский. Да, прошептал он отражению, они построют стену из смеха, и в голубом храме будет петь живая вода.
Он вздрогнул. Полиция? Он спросил, кто там. Курьер из цветочного магазина. Он надел халат, снял фальшивый нос, приоткрыл дверь. Быстро закрыл ее, положил букет в ванну. Что теперь делать? Ну конечно, поесть, конечно, дорогой друг, поесть. Ему остается еда, еда не обманет, не подведет. Его величество желает поесть. Он снял телефонную трубку, заказал пирожки, чтобы долго не ждать, чтобы счастье явилось тотчас же.
Отодвинув блюдо от двери, он быстро закрыл ее на ключ, опустил шторы и задернул занавески, чтобы не знать ничего о внешнем мире, зажег свет, поставил блюдо на стол, а стол подвинул к зеркалу, чтобы у него был сотрапезник, и принялся есть, листая при этом Сен-Симона. Иногда он поднимал глаза к зеркалу, улыбался себе, улыбался бедняге, который ел в одиночестве, тихонько так, почитывая книжку, который смирился со своей участью, даже был ею доволен. Затем он продолжал чтение Сен-Симона и выяснил, что этот общественно признанный гаденыш был очень обласкан при дворе из-за одной фразы Его Величества, Оно удостоило его замечанием, что будет дарить ему такую же благосклонность, как и его отцу. Все эти герцоги и маркизы вставали ни свет ни заря, чтобы обсудить утренний настрой и еще дымящиеся испражнения Его Величества, чтобы узнать, кто сегодня будет в фаворе, а на кого падет немилость, чтобы держаться поближе к первым и подальше от вторых и, прежде всего, чтобы попасть на глаза самому Испражнителю, еще не слезшему с высочайшего горшка, чтобы ему понравиться. Хитрые собаки. Тот же Расин истово бил себя в грудь у подножия трона, чтобы вернуть монаршую милость. Собаки, да, но счастливые собаки.
Внезапно из радиоприемника раздались звуки «Марсельезы», которую пела толпа. Кровь прилила к его лицу, он вскочил, выпрямился. Стоя «на караул», забавно прижав ладонь к виску в военном приветствии, дрожа от сыновней любви к Франции, он присоединился к хору бывших сограждан. Гимн закончился, радио замолкло, он опять был одиноким евреем в комнате с опущенными шторами, освещенной электрическим светом, невзирая на солнечный день.
Чтобы не смотреть на то, что стало с его жизнью, он лег, полистал модный роман, автором была женщина, а героиней — маленькая сучка, буржуазный цветочек, которая скучала и оттого спала со всеми подряд, просто от нечего делать, а после этих тоскливых соитий между двумя стаканами виски, то с этим, то с тем, возможно, сифилитиком, гоняла на машине со скоростью сто тридцать километров в час — просто от нечего делать. Он отбросил эту мерзкую чушь.
По радио началось протестантское богослужение. С тоской в груди он слушал песнопения верующих. О, эти голоса, исполненные уверенности и надежды, нежные и добрые, по крайней мере, добрые в этот час. Он встал на колени перед радиоприемником, встал на колени, чтоб быть с ними, своими братьями. В его груди каменело рыдание, он дышал с трудом, он знал, что выглядит комично, одинокий иностранец, поющий вместе с ними их гимны, с теми, кто не хочет его, не доверяет ему. Но он пел с ними прекрасный христианский гимн, о, счастье петь с ними, петь, что Бог есть оплот, и защита, и броня, о, счастье осенять себя крестом, чтоб быть с ними, чтобы любить их и чтобы они тебя любили, счастье произносить вместе с братьями священные слова: «И приидет царствие Твое, и будет сила Твоя и слава Твоя отныне и присно и во веки веков, аминь». Примите святое благословение Господне, сказал пастор. Итак, он склонил голову, чтоб получить благословение, как они, вместе с ними. Потом он встал, одинокий еврей, и вспомнил о стенах.
И вот он вновь надел свой картонный нос и засмеялся. Почему бы не доставить удовольствие уличным стенам? Мерзкая витальность, идиотское желание жить. Иерусалим или Рашель? Нет, сейчас — шоколадные трюфели, быстро. Я вас съем, мои маленькие, сказал он им. Простите меня, я про вас забыл. Он посмотрел в зеркало на себя жующего, радостно жующего трюфели. Но как только трюфели кончились, вновь подкралось несчастье.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу