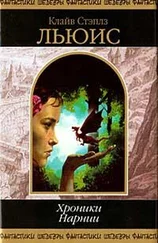Ее лицо горело.
Свет на полу исчез, словно испарился. Мать не отрывала глаз от темноты, поднимавшейся по ее ногам, от теней, тихо растекавшихся из-под стульев.
Кэт нагнулась и подобрала четки. Никто не произнес ни слова. У меня было смутное, не имеющее четких ориентиров чувство пловца, я колыхалась, как угорь в море. Я ни за что не могла ухватиться, ничего не понимала. Да и что я могла сказать?
Хотя, кажется, отчасти я знала. Я начала набирать воздух в легкие, словно взбивая подушку, которой вскоре предстоит вынести немыслимой силы удар.
Мать медленно повернулась ко мне.
– Он все равно не послушал бы меня. Каждый раз, когда я отказывалась сделать это, он улыбался и говорил: «Нелл, все будет в порядке. Бог не станет тебя винить. Ведь ты же одаришь кого-то милосердием Божьим. Оставь мне мое достоинство. Позволь мне поступить так, как я считаю нужным».
Тогда я поняла.
Думаю, я издала какой-то звук, стон. Это заставило всех обернуться и внимательно посмотреть на меня. Даже мать. При виде ее я испытала благоговейный ужас.
– Не надо было мне его слушать, – сказала она. – И зачем я его послушала?
Отец Доминик часто заморгал, и единственно что я смогла подумать, – это какие тонкие у него веки – две голубовато-белые полоски плоти.
Я привстала в изумлении, озарении, которое наступает, когда жизнь приобретает форму такого жестокого совершенства, что ее можно видеть с ничем не замутненной ясностью. Вот как оно все вдруг обернулось – жизнь, какая она есть, непомерная, наводящая ужас, опустошительная. Ты видишь, какие огромные пробоины она наносит людям и на какие ужасы способна любовь, чтобы заполнить их.
Мать разрыдалась. Голова ее упала на грудь, вздымаясь и опускаясь вместе с плечами. Я дотянулась до ее безвольно повисшей руки, которую надо было взять. Ведь я одновременно любила и ненавидела ее за то, что она сделала, но больше всего мне было ее жаль.
Рука была влажной и свинцово-тяжелой. Я коснулась вздувшихся вен.
– Ты сделала единственное, что могла. – На большее я была не способна – только на эту уступку, эту снисходительность.
Я не была уверена, что она расскажет мне, как это сделала, даже если я спрошу.
Я почувствовала первые признаки облегчения. Посмотрела на отца Доминика, беззвучно шевелившего губами, и решила, что это благодарственная молитва за то, что капитуляция матери перед прошлым наконец позади. Я верила, что, какой бы отвратительной ни была правда, она, по крайней мере, стала явной. Верила, что хуже быть не может. Оказалось, что я ошибаюсь.
Хэпзиба принесла матери стакан воды. Мы торжественно смотрели, как она взяла себя в руки и выпила его. Каждый глоток в тишине казался преувеличенно громким. Я вспомнила, как рылась в ее ящике, как нашла трубку.
– Все случилось не из-за трубки, – сказала я. – Трубка тут ни при чем.
– Да, – подтвердила она. Кожа на лице у нее шелушилась и была дряблой, как и маленькие, оплывшие мешочки под глазами. В глазах застыло выражение пустоты и спокойствия, которые наступают после катарсиса.
– Знаешь, Джесси, что такое «мертвый палец»? – спросила Кэт.
Я удивленно повернулась к ней.
– Что? – глупо спросила я, думая, что она имеет в виду палец матери в баночке на прилавке.
В лавке наступила полная тишина.
– «Мертвый палец», – повторила Кэт мягким, вдруг подобревшим голосом, – это растение из семейства пасленовых. – Она загадочно смотрела на меня, словно желая понять, уловила ли я смысл. – Очень ядовитое, – добавила она.
Меня озарило – отец умер, проглотив какое-то ядовитое растение.
Я встала, тряхнув головой. Как нам удается внезапно переоценить образы и понятия, которые, казалось бы, успели въесться в каждую клетку тела за тридцать три года?
Я подошла к прилавку и, обхватив голову руками, облокотилась о лоснящееся от времени дерево.
– «Мертвый палец», – сказала я, поняв, что послужило причиной извращенного желания матери бесконечно калечить себя.
Хэпзиба подошла и встала рядом со мной, дотронулась до моего плеча:
– Оно обычно растет возле кладбища рабов. Иногда цветет, если я достаточно внимательна. Это кустарник с покрытыми пушком листьями и серовато-белыми плодами, похожими на пальцы, и от него ужасно воняет гнилью. Возможно, ты видела его на острове.
– Нет, – ответила я, все еще мотая головой, ничего не желая слышать.
– Он более милосердный, чем другие пасленовые. В сороковые и пятидесятые люди использовали его, чтобы избавить своих любимых от нищеты. Твой отец умер мирно, Джесси. Просто заснул и не проснулся.
Читать дальше