Он поднялся, с нектаровой улыбкой размышляя о корректуре, качнулся, наступивши на вьющийся шнурок (сейчас толстенный шнур), чётко ощутимый, как принцессова фасоль, подошвой; Алексей Петрович вскрикнул «Ай-ай!» — и, ожидая укуса, вцепился в край стола.
Америка повторно описала шарнирный полукруг, нашла веретённое цевьё, утвердилась на нём, — причём уже независимо от материка Алексей Петрович накренился, мелко перебравши цыпочками (точнёхонько попадая в каждый из бубенцовых взрывчиков), — настырный пастырев перст, сохраняя сердоликовый обруч у основания, забурел темнее электрона, будто пирамидальные Гелиосовы дочери наплакали его, — а за витражом, оттопыривши от Römer’ ’а (с пивком и урановой кровью пополам) круглоголовый мизинец, блистая меж вздутий виртуальных грудей васильковой, как апрельская Нева, камеей Готтлиба Готье, рыжая, стриженная под дряхлую fée moustachine (но с неряшливым чёрным клоком на затылке, точно маскировавшим там втулку) трибада в мотоциклетных доспехах (откуда эта латница?!) с пирсинговыми кольцами в губах, смакуя своё серебро да отрыгиваясь, выгребала из матросского кармана шароваров грошиные пригоршни и, под методично-похотливое сжатие всех лицевых желваков, веером рассыпала по столу монеты (звеневшие жёстко, бронзово, словно призывая вспять век своей владелицы), чтобы красной, шелушащейся пуще бересты («бы», хочется вторить себе — «бы, бы, ббы-ы-ы-ы!», щупая колкие тона, изумрудный и светло-коричневый, твоего папируса, о rus! «бы!») подушечкой перста (прочие щупальца, будучи не в силах противиться атавистическому рефлексу, стягивая в кулак), как плевелы из гречи, выбирать из них самые мясистые, будто уготовляя их себе на закуску. Блики от меди пробегали по скулам, подчас замирая на них, — и тогда, казалось, что у сапфеянки полдюжины зрачков.
Трибада даже и прервала просеивание, чтобы окатить своим мрачным шкиперским взглядом задок Лидочки (вздрогнувшей, ибо женщины… — куда чутче лесбиянок, — entre nous, guines consanguines, on se comprend, n’est-ce pas?), как Зевс — обширную Каллисто, но пальцы её самостийно продолжали антиподовый танец, осенний, мартовский: остервенелая страда несаженого урожая, диких саванных всходов!
Мимо! Мимо неё, шнурками бия по полу (где-то он уже нахлёстывал похожий ритм!), прошествовал Алексей Петрович, прощальным взором удостоверяясь в способности соевой капли к сверхвыживанию: так к узорно-пятнистому, бредово-небридовому древесному бедру, истекающему лимфой, сбираемой в бутылку из-под водки, липнет взгляд, будучи не в силах от мученицы оторваться, ждущий, требующий, участвующий в изуверской процедуре, узаконенной миром — с бессовестно оттопыренной упырьей губой, — жаждущим (пуще, нежели ретивый Ретиф — белого винца!) берёзового блеяния.
Наконец, василисковому глазу Алексея Петровича покорясь, обрушился мотоцикл, и, поджав ноги, — замер, с наслаждением прикурнувши к свастикой треснувшему окну. Заоколичное торжество. Вой. Голый торс бора, негритянский, точно к раунду плебейского мордобития изготовившийся. А сзади, сбирая весь калым бородулевого бородоненавистничества, сперва предназначавшегося Алексею Петровичу, плёлся Пётр Алексеевич, сутулясь под тяжестью чилийской лозы и от давней почечной болезни, которую подхватил, как Никий — однажды выбравшись на природу. «И всё-таки покинуть его! Завтра же!» — и шнурки шёлкали далее; уходя из ресторана, Алексей Петрович, всей поверхностью кожи отдаваясь азиатской угодливости, мог вообразить себя достославным идиотом-меченосцем Куросавы, — не наполняй залу трезвон советского Нового года, переслащённый до приторности Чайковским, презанятно усовершенствовавшим Халявину синекуру.
А снаружи бушевал ветер. Алексей Петрович подставил ему шершавую кожу ланит, гримасничая, отворотил рот в сторону львиц, — свирепых сейчас, словно разродившихся от бремени, и заглотивших по многоваттовой плошке, озарявшей, вкупе с разорванным теперь термометром, их чёрные затупленные резцы, — вдохнул лонешний запах соломы. Грохнула дверь; пробежал, раскрывши объятия и с початой бутылкой рома, азиатец, вырывая Алексея Петровича из ступора, увлекая вслед за собой его, неспособного унять взор, всё примечающий в этой, уже уверившейся в своём нимфовом спасении, лучащейся Америки: как, например, севши за руль, Лидочка сложила ворсистую свою ляжку, хлопнула дверцей, защемив бахрому шали, приоткрыла и, втянувши материю словно хвост, чавкнула замком; и каждое движение мачехи находило ритмичный отзыв сначала в ледяном ситцевом прикосновении, затем в пожатии мускулистой шины, а после — в наложении мужских рук на ещё тёплый мотоциклов зад:
Читать дальше
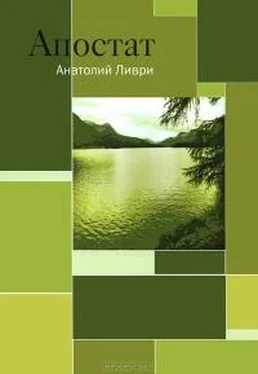

![Анатолий Ливри - Ecce homo[рассказы]](/books/77555/anatolij-livri-ecce-homo-rasskazy-thumb.webp)







