Алексей Петрович кивнул за ширму (пастырь, тщеславный представитель жреческой гильдии, принял жест как знак поклонения своему богу), старательно скручивая трубочкой вкруг Caran d’Ache’а салфетку, и, пряча обоих, проследил, — одновременно наслаждаясь им — за их продвижением сквозь брючные ткани.
— Кофе? — выставила Гарлин два таких искусанных ногтя, что даже Грум одолжил бы ей пилочку.
— Ну что ж! Ещё раз! — выкрикнул Алексей Петрович, или нет, рявкнул кто-то за него, по ту сторону Алексея Петровича, в него же нещадно вклиниваясь голосом, а Лидочка, скрестив на груди руки, ладошками скрыла сосцы: locus desperatus! — это признание факта цареубийства шахматных задач, или же самораспятие, головой вниз, Виламовица, наисознательнейшего передовика эллинистики, прежде полезшего с вилами наперевес супротив филологии будущего, а затем намылившегося в баньку с Палладой. Конечно, шутя.
Кофе Алексей Петрович получил, уже без мёда (жертва принесена!), но с дозой сахарного песка, и счётом, переданным в дрожащую длань Петра Алексеевича. Бедняга! Как созревало, небось наливаясь красненьким, его головокружение, да зелёный страх расплаты топорщил волосики вдоль позвоночника, — свои Алексей Петрович, и по совсем другому поводу, также начинал ощущать. Занятный это процесс: неуклонное вклинивание в чуждую душу, поначалу с некоей долей благоговения, — точно при вступлении в фараонов мавзолей, перекрестившись на Гора, разинувшего клюв, да чертыхнувшись по-альбионски, как учил Бомарше, — но после видишь (тут Алексей Петрович обнаружил Caran d’Ache да, обнажив его, застрочил мелко-мелко, удерживаясь на самой кромке пакетика, в сахар всё же подчас проваливаясь, — и тогда раздавался неприятный шварк, — вызывая почти ужас, знакомый геннисаретскому рыбарю) «…замечаешь, сколь простецки обставлена самая, казалось бы, мистическая душа: тёсаный алтарь с ризницей; ратный металлолом, крови не изведавший; топорная грубость портиков; ропот нерадиво подведённой тени валких лавок, скрипящих под библейской макулатурой — вот она, бессмертная!»
Пётр Алексеевич, засмотревшись на счёт, подумал, подумал ещё кручинистей, подумал, переполняя себя всеми муками человечества (морщение лба, набухание калькуляторской мысли левого полушария, ерошащей загулявшие волоски поверх толстых, почти бетховенских крыльев носа; таким приблизительным портретом, — на который после жаркого душа становлюсь похож и я, — в сёлах вкруг Швабского моря рекламируют, на помойных баках и дубах, бургомистром приговорённых к гильотине и последующему четвертованию, Die Neuente с сонатой для Разумовского, вкупе с пивной кружкой да прилагающейся к ней кручёной базельской баранкой, этим аламаннским воплощением гераклитового учения), и выложил, — крякнувши отчаянней Аннисера, расстающегося с третью таланта, точно лопнула струна виолончели! — десять бумажек. Соприкосновение со столом каждой из них сопровождалось медленным шелестом губ, тяжким дыханием, совиным угуканьем Лидочки (приятным крамольному духу Алексея Петровича), бахромой шали стиравшей чёрную каплю на скуле, «…встала против витража, упершись обеими руками в проклюнувшую на мгновение талию: вздёрнутые плечи, глянцевый пробор, откинутое, с набившим оскомину левым уклоном, личико, длиннющее платье трудновообразимого наваристого, до крашенно-рудной мясистости колорита κυάνεος с пёстрым кушачком — вылитая Марьянна! На столе вдоль прокрахмаленной плодоножки скатерти — роскошь брызгов лукианового бреда, желтушных, сиречь с моей дланью не знакомых и размётанных по полу ночным бубенцовым сквозняком вослед банальнейшей бакалейной американской мыши, — дегустировавшей обломок суши, как манну, упавшую с благоуханной аароновой бороды в момент последнего диалектического приступа агонизирующего Бога (все мы нахлебники, на обелиски лакомо-лакримогенных цивилизаций жадные!), — вдруг исторгнувшей у отворотившейся от витринного пастыря Лидочки вопль тоски сарматки по матриархату: так уже афинский, кровушкой африканского бородавочника очищенный да удравший от ареста Орест, выкликает, единым голосом со своей Электрой-садовницей, посреди ночи, в солнечной испарине, и на пушкинский ямб налегая, клитемнестрову тень вкупе с эриниями, — так и я, в полудреме, вскочу, бывало, ухвативши собственное с исковерканной топографией рыльце. Ни дать, ни взять — благодать, испытавшая бесячий прогресс…» — на который Алексею Петровичу не хватило клочка белой бугристой поверхности, и Провидение, тяжко всхлипнув, погрузилось в глубину, — хоть Алексею Петровичу вовсе была не чужда кассандрова страстишка к копирайту пророчеств.
Читать дальше
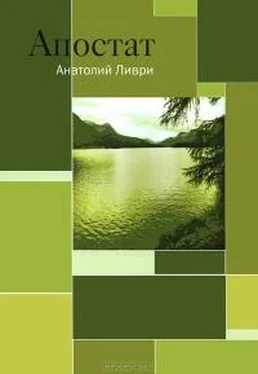

![Анатолий Ливри - Ecce homo[рассказы]](/books/77555/anatolij-livri-ecce-homo-rasskazy-thumb.webp)







