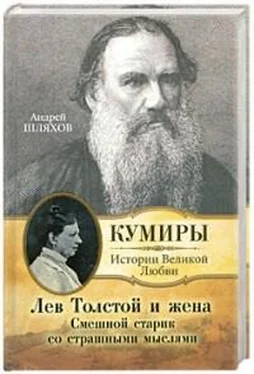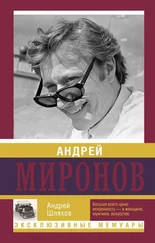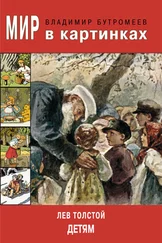В ночь на 11 июля Софья Андреевна снова завела с мужем разговор о дневниках, которые продолжали оставаться у проклятого Черткова. Снова были слезы, упреки, угрозы покончить с собой. В качестве последнего довода отчаявшаяся Софья Андреевна не придумала ничего лучше, как выйти на балкон, тот самый балкон, где еще в девичестве ощутила она впервые любовь Толстого, улечься там прямо на голые доски пола и начать стонать. Муж раскричался, заявил, что жена не дает ему заснуть и грубо прогнал ее прочь. Софья Андреевна ушла в сад и около двух часов пролежала «на сырой земле в тонком платье», пока за ней не пришли домашние.
Это было не столько отчаяние, сколько демонстрация, устроенная истеричной натурой. В дневнике она писала: «Если б кто из иностранцев видел, в какое состояние привели жену Льва Толстого, лежащую в два и три часа ночи на сырой земле, окоченевшую, доведенную до последней степени отчаяния, — как бы удивились добрые люди! Я это думала, и мне не хотелось расставаться с этой сырой землей, травой, росой, небом, на котором беспрестанно появлялась луна и снова пряталась. Не хотелось и уходить, пока мой муж не придет и не возьмет меня домой, потому что он же меня выгнал».
«Жив еле-еле, — писал на следующий день в дневнике Лев Николаевич. — Ужасная ночь. До 4 часов. И ужаснее всего был Лев Львович. Он меня ругал, как мальчишку, и приказывал идти в сад за Софьей Андреевной. Утром приехал Сергей. Ничего не работал — кроме книжечки: “Праздность”. Ходил, ездил. Не могу спокойно видеть Льва. Еще плох я. Соня, бедная, успокоилась. Жестокая и тяжелая болезнь. Помоги, Господи, с любовью нести. Пока несу кое-как».
Желая положить конец истории с дневниками, Лев Николаевич пришел к «соломонову» решению — у Черткова дневники забрать, жене их не отдавать, а положить до своей смерти на хранение в Тульское отделение Государственного банка. Разъясняя свои намерения, он написал Софье Андреевне обстоятельное письмо. Жена находилась рядом, буквально в соседней комнате, но разговаривать с ней не было ни сил, ни желания. Проще уж написать на бумаге — по крайней мере прочтет до конца не перебивая.
Сразу же, без предисловий, Лев Николаевич «взял быка за рога», а затем перешел к пояснениям:
«1) Теперешний дневник никому не отдам, буду дер -жать у себя.
2) Старые дневники возьму у Черткова и буду хранить сам, вероятно, в банке.
3) Если тебя тревожит мысль о том, что моими дневниками, теми местами, в которых я пишу под впечатлением минуты о наших разногласиях и столкновениях, что этими местами могут воспользоваться недоброжелательные тебе будущие биографы, то не говоря о том, что такие выражения временных чувств, как в моих, так и в твоих дневниках никак не могут дать верного понятия о наших настоящих отношениях — если ты боишься этого, то я рад случаю выразить в дневнике или просто как бы в письме мое отношение к тебе и мою оценку твоей жизни.
Мое отношение к тебе и моя оценка тебя такие: как я смолоду любил тебя, так я, не.переставая, несмотря на разные причины охлаждения, любил и люблю тебя. Причины охлаждения эти были (не говорю о прекращении брачных отношений — такое прекращение могло только устранить обманчивые выражения не настоящей любви) — причины эти были, во-1-х, все большее и большее удаление мое от интересов мирской жизни и мое отвращение к ним, тогда как ты не хотела и не могла расстаться, не имея в душе тех основ, которые привели меня к моим убеждениям, что очень естественно и в чем я не упрекаю тебя. Это во-1-х. Во-вторых (прости меня, если то, что я скажу, будет неприятно тебе, но то, что теперь между нами происходит, так важно, что надо не бояться высказывать и выслушивать всю правду), во-вторых, характер твой в последние годы все больше и больше становился раздражительным, деспотичным и несдержанным. Проявления этих черт характера не могли не охлаждать — не самое чувство, а выражение его. Это во-2-х. В-третьих. Главная причина была роковая та, в которой одинаково не виноваты ни я, ни ты, — это наше совершенно противоположное понимание смысла и цели жизни. Все в наших пониманиях жизни было прямо противоположно: и образ жизни, и отношение к людям, и средства к жизни — собственность, которую я считал грехом, а ты — необходимым условием жизни».
Разумеется, он не мог не постараться обелить себя: «Я в образе жизни, чтобы не расставаться с тобой, подчинялся тяжелым для меня условиям жизни, ты же принимала это за уступки твоим взглядам, и недоразумение между нами росло все больше и больше. Были и еще другие причины охлаждения, виною которых были мы оба, но я не стану говорить про них, потому что они не идут к делу. Дело в том, что я, несмотря на все бывшие недоразумения, не переставал любить и ценить тебя».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу