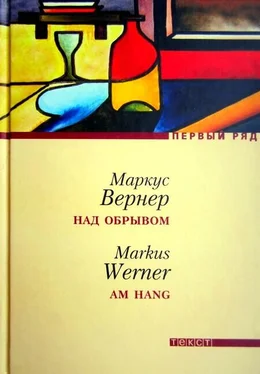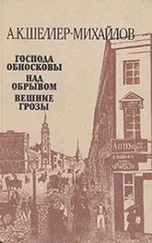— Ты что, в самом деле ничего не слыхал о Валери?
— Абсолютно ничего.
— Она уехала далеко и живет одна. Не сумела перенести разрыв.
Какое-то время мы молчали. Потом, хоть я был уверен, что Ева преувеличивает и явно старается внушить мне чувство вины, я сказал: мне очень жаль, что Валери так трагически восприняла разрыв со мной, я не думал, что так много значу для нее, она ничего такого не говорила. Похоже, заметила Ева, для тебя имеет значение только то, что сказано, а остального ты не видишь. Правда, Валери тоже была слепа, но в совершенно ином роде. Я сказал, что это был бы занятнейший каприз природы, если б двое слепых нашли друг друга. Однако Ева не подхватила мой шутливый тон.
— Тут вкралось небольшое недоразумение, — сказала она. — Валери не сумела перенести разрыв с мужем, а не с тобой.
Я сглотнул слюну и спросил Еву, зачем же она тогда рассказала мне, да еще в таком драматическом тоне, о страданиях Валери, о ее тяжелом состоянии после разрыва со мной.
— Потому что так оно и было, — ответила Ева. — Потому что Валери действительно была в отчаянии, ведь она — это ее слова — любила тебя с непостижимой страстью. И тем не менее всегда знала: что-то между вами было неладно. Однажды она рассказала мне о сцене, которую вы с ней наблюдали на детской площадке. Какой-то ребенок сидел на качелях, а рядом стоял отец. У него в руках была газета, и он, не отрывая глаз от этой газеты, время от времени машинально покачивал качели. Ты даже не заметил, каким холодным равнодушием был преисполнен этот папаша. А Валери не насторожилась, увидев твою реакцию, она вообще заставляла себя забывать о многом, что замечала в тебе. Ее сердце влеклось за ее чувствами — буквально так она выразилась, и она бездумно наслаждалась этим состоянием. Но вскоре ей стало ясно, что она не должна делать из своего мужа глупца. Поэтому она его и оставила, хотя смутно понимала, что это не насовсем, и подавляла в себе чувство вины.
Теперь, возможно, кажется, продолжала Ева, будто Валери поведала ей все, что касалось меня и ее мужа, но это не так. На самом деле она мало что рассказала, и рассказывала как бы на ощупь, словно пыталась вспомнить какой-то сон. О жизни с Феликсом — это имя я наверняка слышал — она рассказывала почти исключительно намеками.
— Это мне знакомо, — сказал я, — со мной она держалась примерно так же, о своей жизни рассказывала урывками, предпочитала окружать себя таинственностью, и эти ее фокусы все больше и больше действовали мне на нервы.
— Это ошибка — по себе судить о других, — заметила Ева. — Если ты сам часто прибегаешь к разным ухищрениям, это не дает тебе права истолковывать таким же образом поведение Валери и говорить о каких-то там фокусах.
Я спросил Еву, посещает ли она психологические курсы. Она ответила, что сама она не психолог, но очень советовала бы мне изучить эту практику, хотя в глубине души не верит, что можно научить человека вникать в чьи-то переживания. Как бы то ни было, но она расценивает сдержанность Валери, то, что Валери трудно было рассказывать о себе, как проявление стыдливости и особой тактичности. Кроме того, Валери знала, насколько сложно вообще передать словами такую непростую и противоречивую материю, какой являются чувства. В душе у Валери царил хаос, она сама сказала об этом Еве. Она чувствовала себя виновной и невиновной, подавленной и счастливой, опустошенной и переполненной — и притом зачастую одновременно. Но и это тоже только намек на ее тогдашнее положение, и, в сущности, надо радоваться, что она вышла из этой ситуации, отделавшись лишь нервным расстройством — вместо того чтобы просто сойти с ума.
— Я, между прочим, тоже вышел из этой ситуации с расстроенными нервами, — сказал я, — только Валери объясняла это совершенно иначе. О хаосе чувств никогда не было речи, и я его почти не замечал, так что сейчас мне довольно трудно вообще в него поверить.
Ева вздохнула — так вздыхают, когда дают понять человеку, что от него устали и не видят смысла продолжать с ним разговор. И все-таки я задал еще один вопрос — хотя на самом деле мне нужно было сменить тему и заговорить о Лоосе, — не потому ли Валери ухватилась за меня, что в ее браке назревал кризис? Этого она не знает, сказала Ева, потому что Валери не делилась с ней подробностями своих отношений с мужем. Валери словно бы выстроила защитный вал вокруг своего брака, и она, Ева, отнеслась к этому с уважением и никогда не пыталась проникнуть за эту преграду. Когда же Валери порой как бы между прочим начинала говорить о Феликсе, голос у нее звучал удивительно тепло, в нем слышалось уважение, даже любовь. Так что ей, Еве, было нелегко догадаться, что заставляет эту женщину бросаться в объятия другого. Она предполагает только, что сейчас Валери уже этого не хочется. Однако она может с уверенностью сказать: причиной происшедшего не были ни вульгарное стремление к разнообразию, ни присущее бабникам искусство соблазна. Слово «бабник» я пропустил мимо ушей и сказал: жаль, что их брачный союз не удалось восстановить. В сущности, я на это рассчитывал, искренне на это надеялся и желал этого им обоим.
Читать дальше