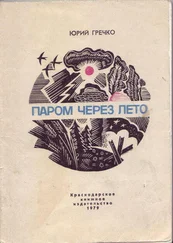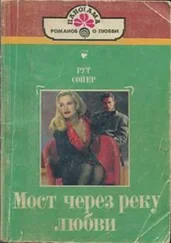И еще я понял, что нет, — на его месте я бы не стал, ни за что, тут бессильны любые авансы. Ведь какая!
В тот момент мне казалось, что я не стал бы. Я бы поступил по другому: полюбил ее. Сделал бы так, чтобы она полюбила. Выстроил линию иначе. Поднял ее на руках, и она бы вздохнула и улыбнулась, как обычно, как утром, как в нашей жизни, которой мы с ней никогда не жили, — улыбнулась той самой улыбкой, которую я запомнил и которую никогда не видел…
И прекрасная героиня, которую я полюбил только что и, не устояв, минуя чужой сюжет, дерзко похитил с экрана, она припухлыми губами смертельно устало улыбнулась зрителям — она не умерла, но осталась во мне, навсегда поселилась, чтобы сторожить какое-то чувство, не названное пока и потому не замутненное словом. Чудо первого возникновения в душе… Но оставим.
В зале зажгли свет, и тогда рядом, несмело улыбающееся, я увидел ее лицо. И не удивился. Я просто узнал это лицо и обрадованно испугался. Ни о чем не стал расспрашивать, лишь сказал:
— Ты устала?
— Ничего, такое у меня ремесло, — улыбнулась она и неопределенно махнула рукой в сторону экрана. — Теперь до завтрашнего вечера свободна.
Я взял ее руку:
— Пойдешь со мной?
И она осталась со мной.
Страшно писать. Сомнительное утешение, что не я совершил безобразия, а мои персонажи — писатель и автор. Они (это очевидно) не совсем «я». Да и не мог бы я такого натворить, обретаясь все же в несколько иных условиях, нежели обстоятельства романа. В моей хрупкой реальности с четвертого этажа не сигануть, увы. А если что, и костей не соберешь.
Здесь знающий читатель и редактор должны поморщиться — мол, опять магические коты, сюр сплошной! Но только зря это они. Сюрреализм — то, что я не могу вспомнить утром. А пока: знакомство произошло. Мало того, теперь оно фиксировано в конце второй главы. Отражено.
Но если слово фиксировано , мягко говоря, с протокольным душком, фальшивое, как фикса, просто бюрократическое, не наше какое-то слово (в том смысле, что и не наш человек ), — то понятие отражения и само слово отражено в этом тексте и вовсе ни пришей ни пристегни. Ведь вторая глава ничего не отражает. Все, что до сих пор вы узнали, случилось во второй главе, а не в Питере. В тексте и больше нигде. Произошло во второй, продолжается в третьей главе, и неизвестно, куда свернет самостийный бег событий.
Другое дело, что мне самому хотелось бы развитие рассказа направить, выстроить, повернуть так, чтобы обнажились связи, приоткрылся смысл, показалась изнанка, — вывести на открытый прием. И слава Богу, что линия сюжета пока еще не выгнулась упрямой струной, не вырвалась, не закатала по лбу — как угодно можно понимать, и прямо, и фигурально: что в лоб, что по лбу. Послушна струна, поет. Но, признаюсь, уже она сама начинает влиять на первоначальный замысел весом созревших обстоятельств, заставляет считаться с целокупной своей самоценностью, подсказывает, открывает непредусмотренные ходы.
Если быть откровенным, признаюсь до конца: где-то, как бы в потемках, неосознанно, я рассчитывал на эти ходы; вроде и продуман был сюжет до тонкости, но я знал, мне без них, без ходов этих, не обойтись. На голом расчете не уедешь, если вещь не оживет и сама не прорастает изнутри. Эти ростки — подтверждение подлинности и верности избранного начала. И поэтому, третья глава:
* * *
…Молча мы вышли из кино в душную, по-августовски темную улицу. Было грустно. Я сжимал прохладную, податливую руку. Постояли у стенда с фотографиями: там смеялась, убегала и падала ничком девушка, зябко прильнувшая к моему плечу. И я укрыл ее своей ветхой кожанкой.
За вечер мы и десяти слов друг другу не сказали, но было ясно: она послана мне во спасение (так думалось), а я ей вот уж не знаю за какие грехи. Мы ничего друг о друге не ведали. И не расспрашивали. Но уже состояли в скрытом сговоре, тайна которого была необъяснима, но понятна обоим, как смысл метафоры.
— Марина? — попробовал я.
— Да, — сказала она.
Ничего еще не было названо. Но я благодарно вздрогнул, узнав в голосе томительную интонацию согласия. В ту ночь она мне говорила: «Да, да». В самые безнадежные моменты я получал ее «да». В том числе и последнее «да», подобное пощечине.
Много позднее, слишком поздно, смог я оценить силу ее маленького «да». Но тогда, на бульваре, в темноте, под зелеными огнями кинорекламы, возле обрушенного дома моего детства, я размышлял иначе. Подпольный миллионер возился с машиной, отключал секретку. Надя зевала, лениво прикрывая прелестный оскал. Я аккуратно застегнул пуговку на своей куртке под подбородком у Марины и решил, что не повезу ее домой.
Читать дальше