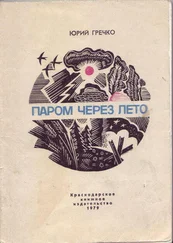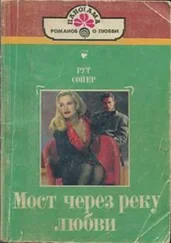Недовольное лицо швейцара расплывалось в табачном дыму вестибюля. Проскальзывая в приоткрытую дверь, я слышал ропот за спиной и ворчливое бормотание сквозь бороду: «Разве можно так! Стекло расколешь. Папаше твоему век не расплатиться…»
Нетерпеливо, не дослушав упрек ворчуна, по крутому вертикальному трапу (ступени под мягким ковром окованы сталью) я поднялся в гудящее чрево ресторана, где сновали с подносами официанты в белых, уже не свежих куртках, пьяно звенела посуда, нелепая пара пыталась танцевать возле эстрады. Но самое главное: на краю площадки раскачивался высокий, тонкий, как трость кларнета, саксофонист. В свете ламп он казался взрослее, улыбался в зал бесстрастным знакомым лицом. И когда я вошел, — мне показалось, он увидел и опять улыбнулся.
Пианист выдыхался. Ударник подстегивал, подгонял ритм щетками. Торопил контрабас. Они оставляли его одного, оставляли совсем одного, опять вступали. Но вот: саксофон ухнул ночной разбуженной птицей. Звук вспорхнул. Оборвался. Упал. Словно слепой щенок тыкался по углам — не находил выхода… Плакал ребенок… Плач нарастал.
Мне махнули от столика. Рядом с отцом девушка в юбке гофре по тогдашней моде, в немыслимой блузке — бабушкины кружева — держала свободное место, закинув ноги на стул (в той ситуации единственный способ удержать). И я увидел замечательно круглые, как судьба, ее коленки, мгновенно взволнованный, улыбнулся и отметил — она тоже не выдержала, дрогнули губы. Злые брызги растаяли в глазах.
Ивлев спускался с эстрады. Отец встал из-за столика, рассеянно поправил платок в нагрудном кармане. Взял инструмент.
Зал обволокла грусть свободы… белая полевая дорога… долгая, ровная нота… обрыв… пассаж! И… саксофон сорвался: ветром швырнуло осенние листья, осознавший неизъяснимость всхлипнул… Кто-то прятался, за ним гнались по гремящим жестяным крышам, с дома на дом он перепрыгивал через узкие улочки-трещины, глубокие, словно пропасти, — я видел эти улочки, ясно помню (но где я их видел?).
Саксофонист рисовал сверкающей трубой в прокуренном зале.
Линия звука извивалась в табачном дыму.
— Где пропадал? — присев к столику, услышал я голос над собой и тут же получил ласковую затрещину.
— Ну, писал, — неуверенно недоговорил я заранее приготовленную фразу и, с этими словами, как бы оборвался вдруг, окончательно потерял остаток равновесия, ощутил незнакомую пустоту испуга под ложечкой и, в попытке спрятать взгляд, приник головой к худенькому плечу.
— Что ты о себе вообразил! — напустилось на меня светлоглазое и светловолосое существо. — Пропадал три дня. Завтра последний экзамен, а ты ни о чем не думаешь… Писака.
Глаза ее покраснели. Нос припух. Мне показалось, она плакала перед моим приходом. И я отвернулся.
— Есть будешь?
— Не хочется.
Я говорил правду — от усталости притупился голод.
— Я звонила каждые два часа.
— Ну и что?
Она удивленно посмотрела, готовая обидеться опять.
— Сам не мог позвонить?
— Вроде того, — сказал я вдруг жестко. — Не мог!.. Маша улыбнулась через силу и положила ладонь на мой голодный затылок.
И тут я почувствовал: даже пытаться описать случившееся — бессмысленно. Я бы мог поверить ей любую беду, но не эту.
Это был мой первый рассказ.
* * *
Сейчас трудно объяснить, с чего начался он. Скорее всего, с обычной записи в дневнике.
Неприкаянно я слонялся по квартире, сдвинул книги и старую (еще деда) пишущую машинку, лежал ничком на письменном столе перед раскрытым окном.
Мокрый после дождя, сад застыл в зеленом тумане. Влажный воздух, парной и насыщенный запахами отцветавшего лета, шевелился, заставляя дрожать изображение. Воздух был цветной. Он подымался волнами, почти осязаемый. Казалось, еще чуть, и воздушная волна плавно приподнимет меня над крышкой стола и вынесет наружу, за белую зону подоконника. И я взмою к ветвям, в восходящем потоке проплыву над куполами кленов, над печными трубами и телевизионными антеннами. Над туманом.
Из нижнего ящика секретера — самого дальнего, — из-под учебников английского языка я извлек тетрадь. В тот момент больше всего я боялся, что вот зазвонит телефон, задребезжит дверной колокольчик, кто-нибудь явится, вмешается в мою ненадежную свободу. И я выдернул вилку.
Я писал — замирая, прислушиваясь к себе, к бесстыдным признаниям обнаженного мозга; воздух звенел над головой, в трещинах асфальта росла трава — я слышал и писал; измышление становилось реальностью, а действительность оборачивалась ложью; оболочки опадали; выявлялась сочная суть, вылезая словно бы из-под кожуры банана, — я писал.
Читать дальше