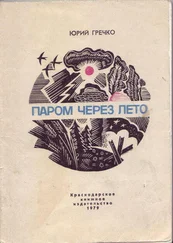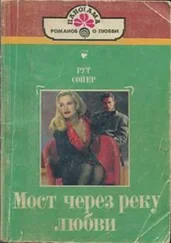Сгущались сумерки. Мы сидели на скамейке в заросшем саду. За стеклянной сеткой дождя белели колонны, размытые очертания императорского замка. Стало легко и спокойно. Никогда еще не было так тихо и просто.
— Пойдем домой?
Крупная рябь сыпала по лужам и по тротуарам. Шумели ночные деревья. Светящиеся струи рассыпались нитяным серебром. Ее платье сделалось прозрачно, как лед. Туфли размокли и спадали с ног. По лестнице мы поднялись босиком.
— Свет не нужно…
Губы нечаянно дрожали.
— Я не боюсь.
Пустые одежды лежали брошенные, кольцо в кольцо.
* * *
Шумели ливни, струи стекали по стеклу. Бледное сияние фонарей выхватывало из темноты мокрую зелень сада. И отчетливо было слышно, как теплые капли стучат по упругой листве.
— А тебе можно?
— Два дня, а потом опасно.
— Я потерплю…
Она смеялась и гладила плечо. Я лежал, уткнув нос в подушку.
— Ты совсем не умеешь терпеть.
— Научусь.
— Может быть, ты и сейчас терпишь, а? Измученная и умиротворенная, она засыпала.
Я лежал на спине, закинув затекшие руки за голову, не решаясь шевельнуться. На плече беззащитно дремала Маша, Мария, Машенька — женщина, которую я люблю. У нее самое популярное имя в Союзе, прохладные губы, льняные волосы. Если она плачет, у нее краснеет нос. А однажды…
В чистой ночи на стене шевелился прямоугольник света от качающегося фонаря. Прямоугольник колыхался, рассеченный неподвижной тенью оконного переплета. Маша лежала тихо, затаилась — она не спала.
— Не спишь? — спросила она строго, скрывая голосом тревогу и ревность.
— Холодно.
Она села на постели, натянув пододеяльник до подбородка. Я должен был ее успокоить и утешить, отвлечь.
— Весной укатим на юг, на Пицунду…
— О чем ты думаешь все время? — спросила она.
— Я не думаю. Не умею думать… Слова вертятся в голове.
— Я видела на столе листы. Исписанные. Ты это придумал?
Я еще не знал, как назвать. Просто листы на столе.
— Сочиняешь во время экзаменов?
— Если честно, мне лень поступать в универ.
— Конечно! Болтаться между небом и землей: сочинять и бродяжничать, — расстроенно сказала она. — Писателем хочешь стать, да?..
— Зачем ты так?
— Честных писателей не печатают. А по-другому тебе не интересно. По-другому писать ты не станешь.
— Не так уж безнадежно под луной.
— Ты обо мне совсем не думаешь. Ты как твой отец.
— Я с ума сойду, если стану думать о тебе.
Ее молчание вплеталось в молчание ночи. Проехал грузовик, и все стихло. Ветер раскачивал макушки тополей.
— Это грустно, — сказала она. — Вот я с тобой, и больше ничего не надо. Кто бы мог подумать, что это так просто.
— А мне все надо! Все! Весь мир!
Я выкрикнул и сник под ее взглядом.
— Все — это и есть ничего. Ты глупый. Ты меня любишь?
— Таких больше нет.
И, словно доверчивый итог обмана, ее ровное дыхание.
Веселый зелененький ресторан-поплавок с шаткими галереями и резными деревянными колоннами, выкрашенными в белый, чем-то похожий на марк-твеновский пароход на Миссисипи, плавно и ощутимо покачивался в черной воде канала, на крутой волне от проходившего близко катера.
Студенты, негры из университетского общежития, фарцовщики и центровые с Невского, матросы торгового флота и портовые грузчики, поднаторевшие на перепродаже пластинок, лабухи, музыкальные критики и всезнайки из джаз-клуба, битломаны и даже дипломаты собирались в розовом зале за тяжелыми столами, покрытыми застиранными, но крахмальными скатертями. У входа выстраивалась очередь. Седовласый швейцар в ливрее — вылитый адмирал — привычно отражал напор желающих: они осаждали ресторан. Для тех, кто замешкался, не успел, не позаботился заранее о месте, не оставалось надежды попасть в зал. Публика сидела до упора, как на концерте. «Идут и идут… — ворчал швейцар, запирая дверь перед возмущенным лицом женственного длинноволосого хиппи. — И что идут, медом им тут помазано? Плану от волосатиков-то не жди…» О чаевых он уже не мечтал. И верно, заказывали кофе и почти не ели. А пили тайком принесенное с собой. Публика собиралась слушать джаз.
По набережной, празднично освещенной огнями окон, спускаясь от моста через Невку в устье Кронверкского канала, в тот вечер я непривычно робел. «Вот возьмет и не пустит?..» С нарочитой уверенностью проталкивался через толпу на сходнях, внимавшую доносившимся с реки звукам оркестра. Уже представлял, как Цербер притворно меня не узнает, не открывает, и я остаюсь в теплой августовской толчее у входа. Разухабистые синкопы отчаянной ниточкой, звуковым пунктиром, как невидимым мостом, связывали меня с теми, кто внутри, в ресторане, кто тоже слушает и ждет. Ждет — в этом-то я был уверен. И оттого чувствовал себя, как провинившийся школьник, как прогульщик. И громче, чем требовалось, стучал монеткой в зеркальное стекло.
Читать дальше