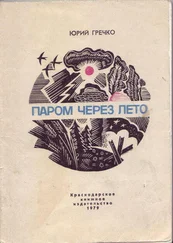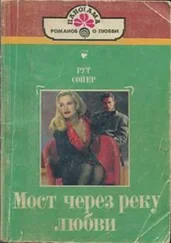Весь следующий день Вероника маялась и томилась. Бродила вокруг телефона, хватала черную трубку и, набрав знакомый номер, опускала на рычажки, не дожидаясь сигнала. Потом опомнилась: он с утра на работе. Рассмеялась. Она и сама на работе. Но опять выходила в другую комнату к другому телефону. Начальник хмурился вслед. Чувствовал неладное. Ревновал.
После обеда позвонила супругу, чтобы успокоиться. Муж сразу снял трубку — как обычно, он оказался на месте, может быть, его там привязывали к столу: всегда на месте, всегда при деле. Голос, привычно бодрый, раздался из наушника отчетливо — слышали все, кто сидел в комнате. Муж сообщил, премии в квартал им не будет. Вероника мгновенно прикинула: не уплатим взнос за кооперативную квартиру — придется занимать. Голос в телефоне громко смеялся, утешал. Сослуживцы прислушивались. «Не расстраивайся!» — сказала она, обламывая телефонное веселье. И отправилась курить.
Через общих друзей целый час выясняла новый номер служебного телефона Лешакова. Обдумывала предлог. Но решила отбросить уловки, обойтись без условностей. Раздраженный женский голос ответил: «Нет его. Болен». Вероника расстроилась. Что она знала о сегодняшнем Лешакове, может, у него на работе роман, или ему женщины непрерывно звонят. Наконец собралась позвонить Лешакову домой, но встретила напряженный взгляд шефа. А если этот дурачок трубку повесит или скажет: нездоровится, давай в другой раз… И она надумала идти без звонка. Не изобретать предлога, а оставаться на старых правах. Вероника неизменно чувствовала за собой права. И не то чтобы не хотела, она не могла их уступить.
С авоськой апельсинов и сумкой, откуда вывалились на пол кусок рыночной телятины, парниковые помидоры, бутылка венгерского вина, в одной руке, и вялыми вечерними подснежниками — в другой, Вероника возникла на пороге лешаковского дома, беспомощная от непривычной робости перед Лешаковым. И не успела она объяснить, сказать — она и пикнуть не успела, замерла на пороге, встреченная поцелуем. А затем бережно и жестко ее подхватили, провели или пронесли по коридору в знакомую комнату, которую она не узнала, так в ней оказалось чисто и светло, освободили от сумок, от набухшей шубы и снова помчали на руках вокруг стола, в то время как гасли лампы под потолком. И на диване она не успела возразить, отстраниться, опять ничего обломить не успела. Ее не спрашивали — пришла, значит пришла.
Наконец-то ее не спрашивали и не слушали, от нее не ждали инициативы, не мучили разговором, бессмысленным и тошным. Брали. Она пришла — большего и не требовалось. Объяснениям была оставлена их вечная цена. Ее брали, и это было жутковато и сладостно. Просыпался протест. Но руки, взлетевшие, чтобы оттолкнуть инженера, крепче сжимали бледное в сумраке плечо, словно бы вырывая из хриплого дыхания долгожданный стон. И вот он уже едва слышно, с замиранием, отяжелело затихал на ее руке. Неузнанный, но знакомый. Пугающий, но близкий.
Потом они хохотали, и она, надев его халат, тушила телятину на кухне под недоуменными взглядами соседок. А инженер не вертелся вокруг, как бывало, помогая невпопад и уже раздражая. Нет. Он ушел в комнату с чистым стаканом для цветов, вазы в доме не нашлось. Был занят: брился, откупоривал бутылку, чинил торшер — верхний свет им в тот вечер казался избыточным. И эта занятость, неведомая прежде самопоглощенность удивляла женщину, волновала и почти обижала: она привыкла к иному Лешакову. Но обиды не случилось, а просто выросло нетерпение вернуть и утвердить прежнюю власть, хотя Вероника и видела, что так, по-новому, даже острее, и не следует ничего отвоевывать. Новое обнаруживало удивительную силу над ней, ту самую, которой давно ей не хватало в медленно ускользающей жизни, — так не хватает свежего воздуха на задымленных улицах. Но сила пугала и казалась некстати: могла вызвать последствия и перемены. Последствий и перемен в тридцать лет начинала опасаться Вероника. И чем сильнее боялась, тем острее они дразнили. И чем дольше она думала, тем труднее было сохранить терпеливое равновесие у плиты. Нетерпение росло. Уже оно было желание. И не исключено, что в тот вечер Лешаков жевал полусырую телятину. В конце концов, во всех ситуациях инженер — страдающее лицо.
Существенно в происходившем было то, что инженер мало о чем подозревал. Он не догадывался. Просто легки и доступны стали забытые жесты. Вернее, новые жесты. Но парадокс как раз и заключался в том, что Лешаков не испытывал чувства новизны. Он ощущал, что поступает несколько необычно, иначе. Проявившиеся повадки вспомнились в нем, словно бы он раньше знал, как вести себя в разных случаях, да со временем разучился, забыл. Но инженер прежде никогда не держался свободно. Нынче же если и не было в его поведении полной непринужденности и развязности, то уже прорисовывалась раскованность, которая никогда не была свойственна Лешакову. Свойство это, как и другие, дремало, а теперь пробудилось. И, наверное, хорошо, что Лешакову действительная сторона происходящего была невдомек.
Читать дальше